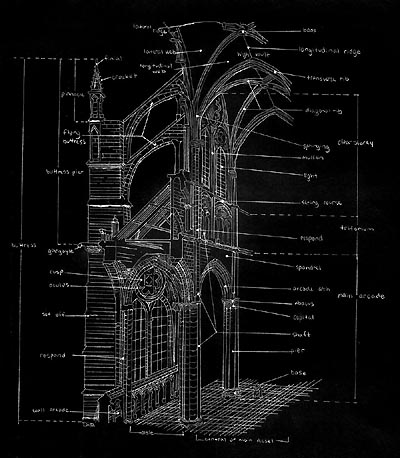|
Poor Monk
Готика
Christmas story
В эту ночь явился ко мне покойный советник Шведенборг. Он был весь в белом и сказал: «Здравствуйте, господин R.!» Неизвестный автор
Рано проснулся после первой в году ночи. Накануне сделал, наконец, по задуманному: не пошел никуда, а остался дома, читать новогодние хокку Кавабаты про танец журавлей в небе и слушать, отрываясь от книги, как Соседи Снизу набирают разбег; деревянный настил, каменные стены, звук разносится как в колодце. Слов не разобрать, лишь по голосам ясно, в каком они круге: мирятся или враждуют. Так угадываешь лад и настроение нехитрой сельской музыки, глуховатой за дальностью. Гулянка в соседней деревне, бретонские танцы: тяжелоногие фигуры враскорячку, покатые спины и коричнево-свекольный колорит – есть такая картина у какого-то нормандского Пиросмани.Сам, впрочем, засиделся допоздна, покуда не заговорил себя тремя строками, чтобы мысли улеглись, – и заснул почти сразу, под пляску с топаньем и свистом, около трех часов.А сегодня год начинается хорошо и спокойно, как давно уже не было. Я сегодня не счастлив как-то по-особому, а нахожусь под легкой отрадной анестезией.…Водоотводный канал подо льдом: на исходе старого года все же приморозило. Только у стоков, открытых в облицовочном камне над самой водой – полыньи, курящиеся паром, а вокруг сидят и греются утки.Идем вниз по каналу уже полчаса, и до сих пор никого не встретили; а иначе не разошлись бы на горбатом тротуарчике, который жмется вдоль решетки. И сами, кажется, за все время не обронили ни слова. Всегда у нас так, забываешь, было ли что из вечно-длящегося произнесено вслух или нет. Она без того все знает, и что ты ей скажешь, соловей записной?..И еще реже услышишь ее голос.Над Городом немыслимая тишина, прозрачный купол с солнечным размытым бликом; такая прежде и во сне не снилась. Здесь, внизу, она нетяжело придавила крыши – и дома рассыпались горкой кубиков, по-деревенски уютных, одноэтажных. И та же тишина, наоборот, освобождает большой простор над Городом. Пустота, ничем совершенно не занятая – легко представить, что так теперь и будет.…Легко представить, как это видится со стороны. При нас, конечно, себе и переглядываться запретили, у меня хорошие друзья; но приговор ей и недоумение в свой адрес читаю, как по книге: в приветливости, чуть избыточной, в том, как ее – вопросом, обращением – на равных принимают в круг беседы… Еще кто кого одалживает, чудаки.Небо белое, почти прозрачное, а над ним зимний свет провел рыжеватую черту. Похоже на оставленный самолетом рыхлый след, который оживет на закате не лучше и не хуже, чем случайные облака, а еще такое бывает на гравюрах Андо Хиросигэ; где, если пейзаж дневной, то над снегами, над крышами замка, над бесцветным и пустым воздушным полем по верхнему обрезу листа наложен оранжевый пастельный штрих.А в ночных гравюрах то же бледное небо отчеркнуто поверху угольно-темным.Небо, а над ним мрак.Остановилась и разглядывает башню на той стороне канала. Так – простая водокачка; и она же, простотой, – ладья или замковая цитадель, вставшая среди разновысоких фабричных корпусов имперской постройки. А я гляжу на нее. Про впечатления окружающих уже говорил; но самое-то первое впечатление, конечно, другое. Это пропущенный вдох, расширенные зрачки у мужчин и суженные у женщин.Я сам, сколько смотрю, до сих пор не могу привыкнуть.Вот и теперь. Замерла посередине шага, африканская грива снова напомнила костер, не только цветом; что еще может так же течь, не меняя формы. Волна по ней проходит, и каждая прядь сама по себе. Веки приопущены, уставши под своей тяжестью, прозрачный взгляд так пристален, что начинаешь сомневаться: видит ли она то, на что смотрит.Я лежал в Первой городской, сгорая без видимых причин; завотделением и не пытался делать вид, будто науке что-то ясно. Палата досталась на шесть коек; соседи не годились уже и в отцы. Парламент, президент, погода… азартный шелест газет, "Рубин", единственный ровесник, не умолкал с побудки до отбоя; я будто и не жил, выдворенный из себя в роевое, добродушно-взвинченное, жадновато-безалаберное, в гулкое от напряжения поле стихийного общего быта. Наушники с "Танской династией" помогали слабо; их с меня довольно быстро снимали. Эгрегор палаты, благостно-раздраженный, щедро-прижимистый, многорукий, как бриарей, шаркая домашними тапками, гулял ночами по проходу от окна до двери.Никогда еще я не ложился и не вставал так рано. Читал одну периодику. На автомате участвовал в коллоквиумах. Пил чай по восемь раз на дню…Она появлялась, ставила цветы в стакан с водой, взамен вчерашних. И, после коротких вопросов, легко отдавалась молчанию – на полчаса или полтора. Ход времени ее не тяготил.А ее действие сказывалось уже через минуту. Сначала один, потом другой сосед оцепеневал над "МК", ящик смаргивал и переключался с "Отморозков" на "Мир животных", а харизматический лидер палаты – самородок, умница, коновод и возмутитель спокойствия, который бы умер в тот же миг, когда закрыл бы рот, – выметался, переходя на разговор с собой, в холл, к друзьям из пятнадцатой, стучать ладьями под пальмой…Я опускал веки, раскаленный мозг остывал, и вспоминалось почему-то из рассказов Лю Аньвэя – как у него на родине, давно, еще при империи, был принят среди ученого сословия узаконенный обычай дружбы. У каждого непременно есть друг, это такой статус, вполне определенный; друга ищут, как невесту, – в жизни и смерти, со взаимной, конечно, помощью в пути или на службе, вплоть до самопожертвования. Также принято друг друга навещать. Он приходит к тебе – не поговорить и не по делу, просто посидеть с тобой, разделить твою тишину. Помню, мне это очень понравилось тогда.В те дни, отмеченные ее посещениями, я и решил, что все будет хорошо; казалось: я уже не должен, от меня отступились, наконец.Потом она уходила. Сосед слева, пожилой еврей, русский патриот, типаж позднесоветского праведника, всю кровь отдавший топливной энергетике, провожал ее взглядом, опустив на одеяло "Роман-газету". "Да-а, девушка у вас…" – говорил неуверенно, весьма обычно многоречивый. И замолкал, вздернув пегие брови, кустистые и длинные на удивление, как у белки-летяги."В тот день, когда ты осерчаешь, хоть на что-то, – я сделаю себе татуировку. Во всю спину". Беззаботный вздох. "Я бы рада…"Поводит коротковатым носом, прислушиваясь к своим каким-то мыслям. И эта безмятежная манера: сколь угодно долго, не опуская взгляда, смотреть тебе в глаза… "Кошачий глаз" – такого цвета ее радужка. Я часто думал – да есть ли за этой прозрачностью вообще хоть что-нибудь. А потом понял: здесь не было ничего, кроме ожидания, спокойного настолько, будто главное ей обещали наперед, и беспредельной доверчивости, нашедшей, на кого обратиться. Поняв, я навсегда успокоился – позже я еще пойму, что скучно мне не будет – и легко, без пыли и пафоса, сделал выбор.Отклик был у нее готов.Чугунная в завитках решетка все тянется по правую руку, но это уже не канал. Деревья махровые от инея, деревья теснятся, лезут друг на друга.Идем вниз по бульвару, а он трубой смыкается впереди. Смотришь вдоль него – и как сквозь зимнее окно, в протаявший глазок… такое обрамление из белых пальмовых веток наслаивается со всех сторон, теснит, сужает поле зрения… а ты идешь как в шорах, и в конце калейдоскопа темнота.Карбоновый период – тогда древовидные папоротники тоже вымахали выше сосен, а потом накатило оледенение.У меня в рукаве поет без слов несчастная Чжу Интай: g1 a1 d1 d1 d1 e1 g1 c2 a1 a1 a1 g1 …еще кому-то не спится в этом городе.Дзен-Баптист, ушам не верю… С наступившим – с наступившим... Неужто встали? …Не ложились? Но нет, выясняется, что все же ложились, буквально час-другой, под утро. Теперь догуливают. Дух пока силен, и много чего осталось. Я приглашен. Вернее, мы оба, конечно, приглашены. Азартные крики – приглушенно – фоном. Приветы-приветы; обо мне помнят. Спасибо, Рубенович, не тот момент; мысленно с вами. Ладно, еще с прошедшим, шакти свою в ладонь поцелуй… Нагнувшись, ловлю ее руку: "Велели".Кивает, вполне благосклонно; ресницы опускаются вниз – взлетают вверх. Принято."Женщина должна быть совершенно натуральной", – хохмил Никита, единственный, кому такое позволено. – "То есть понятливой, но при этом глупой и многогранной…"Цитирует, не в его духе.Где-то он теперь? Опять в фазе затмения, томится добровольной меланхолией в затворе, а через неделю или через два месяца сбросит мне по проводам новое эссе, дурашливую эзотерическую заумь – это такой способ общения с миром, очень сложный – или позвонит среди ночи и предложит встретиться, чтобы в сумрачном "греческом" баре гостиницы на Горах легко выпытывать мои впечатления за истекший период и, забывая про "Гиннес", так азартно грузить своими, словно нагрянувший в михайловскую ссылку Пущин, легко поверить, что он только и ждал этой встречи, ровно света в окошке.А может, так оно и есть.Быстро темнеет в этом новом году, и к половине четвертого, когда мы оседаем в кофейне у Покровских ворот, зажигаются ртутные фонари – не раньше и не позже, чтобы вовремя увидеть: цвет сумерек такой же белый, как свет за стеклами. Наваждение держится недолго, три минуты, потом станет темнее, и момент уйдет. Вообще такое чувство в январе, что вся зима – сплошная ночь.Кофейня мне нравится. В воздухе примерно такое: все хорошо, потому что у всех богатый папа; это как бы естественно и почти не подчеркивается. Просторно, зал поделен низким барьером, на нем антикварные ундервуды-граммофоны, пара-тройка, не больше. Высокие столики, только-только поместить два блюдца. Деревянные, в облезлом бордовом лаке, круглые стулья на гнутых ножках. Стена стеклянная.Стена из незакрытого кирпича.Почему-то часть столов, наверное, из-за выходного, вынесли на воздух, как летом; но много мест пустует. Оставляю ее на террасе и иду внутрь что-нибудь взять.Девочки и мальчики за стойкой, персонал, одеты неформально. Джинсы, платформы, майки от пупа и выше; само собой – проколотые уши и крашеные пряди. На широком сизом прилавке у кассы жестянка с бирочкой: "For tips". Если помнить, что кофе в этом вертепе – как чей-то дневной заработок, свой юмор здесь есть.Стоя в недлинной очереди, разглядываю, как обычно, стенную роспись у мальчиков-девочек за спиной. В черно-белой палитре намечен стол и сидящие в ряд фигуры, из них средняя, ростом побольше, притягивает к себе центр. Все повернуты лицом к зрителю – впрочем, лиц-то почти и нет. Зато крупное лицо в зеркальных очках реет над левым флангом, и там же из пустоты распахнутая дверь отбросила дорожку света с тенью стоящего на пороге, и циферблат больших часов, по которому идет время и летит паровоз, и много чего еще...Вся здешняя атмосфера в этой росписи. Талантливая без излишеств, она наводит тревогу; не оставляет мысль о некоей кощунственной аллюзии, хотя ничто, кроме композиции, казалось бы, не отсылает…Медленно ступая, выношу стаканы с соломинками на воздух и сажусь напротив.За трамвайными рельсами в сквере горит пирамида рождественской елки; наискосок через улицу кремовый фасад с кариатидами и греческими личинами по карнизу. Лик Трагедии, отчаяние в маске слабоумия – уж слишком мало это горе стеснено стыдом: изломанные брови, разинутые перекошенные рты, незрячие распахнутые глаза, готовые выплеснуться в слезы…Маски нужны там, где скрывают лица. А здесь? Столько в этом смысла, что я опять спешу отвлечься.Отрываюсь от масок и перевожу взгляд на нее.Легко, конечно, поверить в ее пустоту. Я так и думал поначалу – и не тяготился... разговоры были – бег взапуски с ребенком, чей шаг втрое короче твоего. Не короче, медленнее, вот верное слово: бег во сне, шаг в воде… и отставание от времени, такое фатальное, что в окружении более жестоком стоило бы ей жизни.А так – при своей неспешности она, наверное, будет жить вечно.Какой-то звук пришел извне – и я трясу головой, стараясь от него отделаться. Досадно. То не был ни один привычный голос. Редкая трель мобильника, приглушенная музыка в черных колонках…Она, наконец, что-то рассказывает.Тоже нет. Другое." …?" – переспрашиваю я и уже не слышу ответа. Потому что теперь знаю наверное; безотчетно-гадостное чувство, какое бывает при начале гриппа, казалось, задело еще в очереди, слишком тогда слабое, чтобы уяснить себе, и вот вернулось определенно, а значит…Ничто не кончилось, рано радовался, и зря, пожалуй, взял ее с собой; а дела таковы, что думать о них пока нельзя. Остается вдохнуть поглубже и ждать;Остальное – потом.Сильнее делается зуд, мы на стеклянной тарелке, и смычок ведет вдоль ее края. …Чей-то стон несется за пределом, положенным человеческому слуху... Голова набита звенящей саранчой, мир полнится треском крыл, и все новые стаи вступают в дело, присоединяясь к хору…Приходящие вибрации можно даже видеть. Самый воздух задрожал и потек, как жар над мангалом, а потом свернулся и застыл; подернулся сморщенной пенкой, спекся в студень, пронизанный дрожащими светлыми стрелками…Теперь в этой среде увязли все звуки. Словно испорченный граммофон сбавил семьдесят восемь оборотов до тридцати трех – и голоса людей сделались хриплыми, протяжными, как мычание, забуксовали на басовых частотах, рассыпались в разреженный механический стук и смолкли.…Меня тошнило, потом пришел мгновенный обморок, как от перепада давления. Когда же я снова мог глядеть на мир, мы были уже не одни.Опыт короткой жизни Ло Дэнлина, продвинутого мистика, начетчика-неформала, не успевшего стать легендой, давно занимал меня. Живший в царстве Вэй о ту же пору, когда в Вечном Городе на Босфоре наследники знатных домов слушали у философов слова о воплощенном Слове; а в кавернах и пещерах близ Фив, простоватые и сумрачные с виду, подвизались в опыте безмолвия недавние деревенские мужики, – Ло Дэнлин, духовидец и искатель неторных путей, тоже был подвижником, но совсем иного рода.Удивительное дело… Вряд ли скупые записи династийных "Хроник Троецарствия" могут передать, как мрачно и неожиданно сложилась эта недолгая судьба.Человек редких дарований, рано вступивший в службу при Палате наград и наказаний, ушел из мира, не увидев своего двадцать второго года, – но успев стяжать сомнительную славу эзотерического толка.…Архаика еще жила. Еще оставались люди, те, кто помнил: Сокровенная Самка и Дух Долины, о которых говорит "Дао Дэ цзин" – не пустые образы, не красоты слога – но личные имена… поле страшного напряжения, и вихри, гуляющие в нем вдоль горизонта, вела и одушевляла сознательная воля; и малахольные астрологи при дворе, реликты прежней эпохи, помнили, что символы и схемы "Книги перемен" не были от начала игрою в числа, досугом для ума, но чертились как обереги – загородиться, частоколом, от огромных лиц, извне глядящих в мир. Эти лица существовали много раньше мира и людей, а потому знать не желали о соглашении, положенном людьми между собой, по которому слово становилось пределом смысла, общего для всех, – и готовы были его разрушить, вернув слова разливу бессмыслицы.Ученый на службе трона, Ло Дэнлин встал на войну с архаикой, когда пересмотрел магическое толкование "Книги перемен" – ее почитали за оракул, а еще использовали как гримуар для вызывания и низведения духов. Своим оружием он сделал разум, приведенный к зеркальной чистоте; и сам же, поняв, как мало стерильные озарения сулят душе, обратился, для подпитки силой и кровью, к таким областям, от которых иные прорицатели сочли бы за благо держаться подальше.Сижу, не подымая глаз; мне видны только руки, сложенные на столе. Синие обшлага, тугая смугло-бледная кожа, и длинные ногти на левой, как носили чиновники при старом режиме: "землю сроду не копали".Известно, что незадолго до смерти Ло Дэнлин пережил некие посещения. По его словам, с ним говорили "сокровенные наставники" и "потаенные предки" (строй языка позволяет те же имена перевести как "неясные", "сумрачные" или "невнятные") – и, кажется, это сильно тяготило его. Впрочем, насколько Ло Дэнлин действительно тяготился, стало мне ясно позднее. Усилием воли и рядом особых приемов он сумел вступить в области, влекущие его тем сильнее, чем дальше он сторонился их прежде. Мнение о божестве как величине безличной, без обещания и без надежды на встречу, было самым достойным, что могла предложить эпоха; своей волей Ло Дэнлин выбрал худшую участь – и предстал один под множеством взглядов, так и не узнав того, кто родился слишком поздно, всего за два столетия – и за целый континент – до его собственного рождения.Последние годы Ло Дэнлин, по сути, был в плену. Внезапно он оставляет высокие залы, бесповоротно ломает карьеру – ради ухода в горы, надеясь там, у водопадов, повисших среди туч, найти покой и прибежище от обстоящих наваждений. Но и этот выход был для него уже закрыт.Молодой мистик и ученый вскоре умирает.Говорить при ней нельзя; неважно, что она не слышит. И не замечает паузы – все происходящее поместится меж двух ударов ее пульса. Мне, как Арджуне на колеснице, некуда спешить, я мог бы задержаться сейчас хоть на середине улицы в момент, когда железному потоку дали зеленый свет…Ему не из чего было выбирать – я свой выбор сделал, решив взять силой то, что получают только даром. Конечно, искать вещей, с которыми породнился Ло Дэнлин, мне не позволяло воспитание; да я и был уверен наперед – попади мне даже в руки манускрипт с описанием ритуала и приношения – ничего, кроме смеха, он бы у меня не вызвал.…Сила для подъема берется только снизу? Придонная грязь нехотя отпускает кувшинку к свету на привязи стебля? на это мог купиться Ло Дэнлин. Мне же тонким блудом казались азиатские уловки: расшевелить гада, свернувшегося в тазовой кости, втянуть пользительный яд вверх по соломинке хребта, достигнуть мозга и упиться по капле допьяна.Но и я пробовал не прямой путь, а окольный. Смириться и просить мне не давала независимость; подношению из крови – мешала брезгливость. Оставалась холодная возгонка и дисциплина ума; здесь Ло Дэнлин, в его раннюю пору, казался лучшим образцом. Чего я ждал, однако, если без помощи извне сам наставник счел, наконец, свои средства неполными?..В поиске его наследия я зашел далеко… Но записи "чистых бесед", сотканные из намеренных противоречий, смолкали, по завещанью Ло Дэнлина, на пике напряжения, не ставя точки; и лишь печальный однотонный звук, вслед оборванной фразе, тянулся в воздухе, рождая по себе – недоумение…Слова молчали, традиция казалась мертва, пробелы невосполнимы. И был день, когда я с облегчением решил, что дело мое безнадежно, и отныне я могу жить как все.Два года затем казалось, что так оно и будет.Смотреть нельзя, но я смотрю. Ко мне идут по полю и вырастают с каждым шагом, знакомые по описаниям "Канона внутреннего двора", насельники человеческого тела. Переговариваясь издали: рокот, смех, негромкий и незлой; надо всем голос Белой Барышни почти срывается на визг, словно рвут лист жести; Старый Синий Червь уставил дубленое лицо, так близко, что не виден целиком; потуги кольчатого тела везде вокруг, щетина рвет ладони… Бледный Труп из Северного Дворца косится с усмешкой под ноги, не успеешь встретиться взглядом, как плывет в глазах. С холма спускается багрово-красный младенец, его голову и руки густо запятнала киноварь; кто-то несет в руках две прямые, как посох, змеи. Для жизни это пригодно как зыбучий песок; холод, грязь залила легкие и нет пространства, которое бы разделяло вещи друг от друга; потому двух вещей одного рода здесь нет, а каждая – в единственном числе, и из людей я один.Я работал, с кем-то встречался, много читал, не зная, что, как в танкерном трюме, тяжко плескалось внутри. Воля, долго вперенная в одну цель, сделала свое; нужна была только затравка, чтобы взрывом пошло брожение. Ее я получил извне – и приобщился с нежданной стороны.…С ненормальной скоростью Z. появилась и исчезла на моем горизонте. Явив, в свой черед, редкую цепкость и быстроту, я провел интригу в считаные дни. Лицо не запомнил в круговерти: прорезанные до висков глаза, смоляные волосы, быстрый смех… пожалуй, всё. Дурость нечем оправдать; по сути, я напрашивался сам.Первая остановка была четыре дня спустя.Пора выбираться. Вдох, горбом согнуть спину, чтобы позвоночник лег на замкнутый круг; обратить зрачки в глазницах: на мир глянет сплошная белизна. Поднять ключицы, убрать по-черепашьи шею, вздернуть плечи и вывернуться, как зародыш, кожей внутрь на обратную сторону… Воронка часов сошлась в точку и исчезла; а там раскрылась снова, перевернувшись отражением; два конуса соприкоснулись остриями и разбегаются опять, песок падает, не встречая дна……Темнеет взгляд, свет горит среди тьмы, вдали, как ясная жемчужина. Поднимаюсь и долго иду к нему, вытянув руки, чтобы не разбиться.Черным контуром мои расставленные пальцы, подсвеченные белым, по сторонам дороги скрипы, что-то мелькнуло между мной и светом впереди. А он оказывается вдруг рядом, и видно, что это свеча в стеклянном шаре, стол, терраса, и за ним сидит и ждёт… – осторожно снимаю нагретый тонкостенный пузырь со стола и разжимаю пальцы. Хлопок об пол, брызги стекла… и на террасу разом проливается с Покровки освобожденный воздух и отрадный домашний свет фонарей. Делаю длинный выдох, такой же растянутый вдох и говорю, подняв глаза: "Ну что, пойдем?"И, обернувшись: "Посчитаете за лампу?.. Да; разбил".Идти нам недалеко, в глухие лефортовские переулки. Пока поднимешься в третий этаж, успеет закипеть электрочайник, такие здесь высоты. Ее жилье – коммуналка, гулкая и просторная, как поле, но другие комнаты заперты и пусты. Она сказала, что хозяева не появлялись здесь по году.Сюда я и пришел как-то, на квадратный ковер за светлыми шторами, в непривычное тепло налаженного быта. Мне были показаны – альбомы, собака, приветливая и необычно тихая… Как всегда, коротко прощаемся у подъезда."Звони".Смотрю, как она поднимается по лестнице, скрывается из вида. Больше я не позвоню и не приду. Легко представить, что ждет ее иначе, когда плотный воздух накроет нас обоих; какие впечатления ждут эту восприимчивость, до поры спящую, сбереженную хрустальной крышкой, которую я же и разобъю, впустив ненароком все сквозняки с собой. Здесь они и нашли бы жилище, пустое, готовое и прибранное. Не знаю, как обстоит сейчас, но, сделав это, я пропал навек.Иду домой пустыми улицами и не узнаю места. Остыли грузовики у обочин, лед на тротуарах, днем раньше черный и прозрачный, состарился как исцарапанная алюминиевая тарелка. Далекий путь, и к ночи похолодало, но торопиться мне снова совершенно некуда. Начинается снег, еле видно под пологом света, развешенным на проводах. В горку на мост – зажженный фонарь – ползет пустой трамвай: стекла в переплете железных полос. Ничего. Впереди много месяцев зимы, сяду читать, и они опять выручат меня: слова ровными столбцами, утверждающие связь земли и неба, и зимние дни. Кто дошел до сих пор, вспомните меня, не зря я старался, записывая. А холод прервет брожение, и я поправлюсь. Наверное, ждать придется долго – что же, у меня много времени. Я молод и практически здоров; кажется, мне отпущена долгая жизнь. Только не ступать всем весом на поврежденный сустав, это не трудно. Только переждать; пока еще может сгуститься надо головою воздух; пока в немыслимых местах, на краю болот, бродит без дня и ночи бывший когда-то человеком и вэйским подданным и неотступно думает обо мне.
Все тексты Бедного Монаха на "Яхте"
|  |