"Цаца откинула лапочки"
II: ДОМ
...Нырнуть в глубокую глубину прошлого и не промахнуть бы уровня возврата. Нет дыхания, холодеют пальцы рук и ног. По улице люди-человеки, 1000-тысяча, а без Митьки – 999 или перевернуто – 666, – все вывернуто наизнанку – вверх подбородком, шиворот-навыворот. Через дорогу Дом с темной подворотней, сквозь которую виден Двор с возвышением в центре в виде квадрата со скругленными углами. А в окружающем площадку Доме –
К О Р И Д О Р
Все коридоры кончаются стенками,
И только тоннели выводят на свет
И только тоннели выводят на свет
Советская площадь. Обелиск Свободы протыкает небо над бывшей Скобелевской. А через улицу Тверскую-Горького – Дом Моссовета, ранее двухэтажный, а теперь пяти. Да и уехал он вглубь метров на десять. Васька-капуста, из дореволюционных подмосковников-огородников, вроде как, руководил задвижкой-подвижкой генерал-губернаторской резиденции. Темно-бордовая, обналиченная светлыми рамами окон, она в чугунно-литом обрамлении вязевых ворот так и останется ярким радужным приветом из прошлого. У подножия памятника четверо, и с палками, поцсанов из "Бахрушинки" окружили "центрового" с явными намерениями изложить свои аргументы чужаку – обитателю дома 3 дробь 15 по Столешникову переулку. А он крутанул неожиданный вираж и выбежал на брусчатку Столешникова, еле касаясь мостовой и лавируя между прохожими, влетел в высокое парадное, маханул через все восемь ступенек, в мгновение ока проскочил двери и, перехватив дух затхлого темного тамбура, присел на старый кованый сундук. Напротив –
Комната № 76
Романовна.Муж ейный сгинул пьяный где-то под забором. Появлялась изредка в чем-то среднем между рубахой и серовато-синеватым халатом с продрисью, Романовна проносилась злой и холодной фурией в кухню и обратно – в дверь полутемного логова.

Как-то незаметно прорубилась вторая дверь, появилась новая семья, 7-я. (Ком. № 76-А). Вернее 3-я. Он-подголовник (видимо, проклятье какое-то) тоже сгинул. Остались сын и жена Ольга Веньяминовна, метр с редковолосой серо-седой копной, если халат с требухой на табурет вграбиздить. Ногами волокла тряпичные шлепанцы "ни шагу назад". Основным ее занятием было долгое выяснение по общественному телефону способов лечения многочисленных болезней, а в перерывах она вязала крючком нитяные круглые розеточки, иногда с дырой посередине. Тогда можно и через голову на плечики-грудь прикинуть. Ну и, конечно, сын Александр Основиков. Еще в раннем детстве, дошкольником, он записал на студии пластинку собственного сочинения: "Меланхолический бэби". Во как! 

У Романовны вырос сын Николай. Мужичок – ни тебе здравствуй, ни тебе прощай. Все они там в этой умельченной 76 и 76-А какие-то недоростки. Николай заводил патефон и озвучивал тишину польскими танго "та остатня злотовка…" Когда вино заканчивалось, он сосредоточенно и молча шел через улицу в гастроном к Рите. Возвращаясь, Николай попивал свои две по 0,75 красенького, пока дрема не затаскивала его на лежанку, курил "Север" до тех пор, пока воздух в комнатушке не становился вполне северным. Дым от тлеющего одеяла и табачный только и нарушали  горько-сладкую дрему. Не просыпаясь окончательно, сомнабулически прошаркивал до кухни, кипятил чайник с водой, возвращаясь, методично заливал всю поверхность одеяла, под которое, не раздеваясь, забивался с головой и забывался под аромат смеси паров прелого одеяла и мочи. Впрочем, раза два приезжала 01.
горько-сладкую дрему. Не просыпаясь окончательно, сомнабулически прошаркивал до кухни, кипятил чайник с водой, возвращаясь, методично заливал всю поверхность одеяла, под которое, не раздеваясь, забивался с головой и забывался под аромат смеси паров прелого одеяла и мочи. Впрочем, раза два приезжала 01.
 горько-сладкую дрему. Не просыпаясь окончательно, сомнабулически прошаркивал до кухни, кипятил чайник с водой, возвращаясь, методично заливал всю поверхность одеяла, под которое, не раздеваясь, забивался с головой и забывался под аромат смеси паров прелого одеяла и мочи. Впрочем, раза два приезжала 01.
горько-сладкую дрему. Не просыпаясь окончательно, сомнабулически прошаркивал до кухни, кипятил чайник с водой, возвращаясь, методично заливал всю поверхность одеяла, под которое, не раздеваясь, забивался с головой и забывался под аромат смеси паров прелого одеяла и мочи. Впрочем, раза два приезжала 01.Так было до тех пор, пока не появилась шьюха Надежда, браком с Николаем решившая трудности прописки. Шикарные шканцы-брючата с высоким поясом, как у испанских тореро, сшила она Мите. С полгода повозжалась она с, так сказать, муженьком, а затем, как и полагается, Николай сгинул на перефирии-провинции.
Шурик вырос, вспух, вытянулся и стал Александром Основиковым. Он с удовольствием демонстрировал свои пальцы, уродливо утолщенные на последних ногтевых фалангах. "Молотки!" – восклицал он, восхищенно-ласково, с вожделением стуча по воображаемым клавишам в воздухе перед собой. Говорил медленно, с затянутыми паузами, теряя начало фразы вне всякой логики повествования. Весь какой-то мятый, с удлиненной, распухшей к затылку головой, увенчанной короткими грязно-седоватыми клочьями волос. Обналиченный мерзковатой мятой же рожей с бесцветными вспученными совиными пузырями глаз. Играл он в оркестрах-ресторанах, а в припадках гениальности сотворил две оперетки, поставленные в Новосибирском театре и с тихим шорохом канувшие в безвестие. Завел себе старенький Москвич, подсадил как-то попутчицу Галю Кареву, да и сженился с ней.  Тогда она еще в стареньких шмотках пробавлялась. А уж потом, став полуизвестной, вокалила аж по концзалам и даже в доме СОЮЗОВ пела городские романсы, зачастую пускала петуха-курицу, но публика визжала и плакала от чувств-с, от приобщения к давно сгинувшему и казалось навсегда потерянному. Естественно, кто же, как не Карева истинно по-русски может исполнить русский романс?! Да, да, да – вторил ей пианист-фортепьянист-роялист-аккордеонист,
Тогда она еще в стареньких шмотках пробавлялась. А уж потом, став полуизвестной, вокалила аж по концзалам и даже в доме СОЮЗОВ пела городские романсы, зачастую пускала петуха-курицу, но публика визжала и плакала от чувств-с, от приобщения к давно сгинувшему и казалось навсегда потерянному. Естественно, кто же, как не Карева истинно по-русски может исполнить русский романс?! Да, да, да – вторил ей пианист-фортепьянист-роялист-аккордеонист,  почти состоявшийся композитор. На органе не пробовал, вот на своем органе плоховатенько получилось, сын родился дебилом и, вот что обидно, немузыкален. Меланхолический бэби. А вот папеле Александр и на баяне может, только на гармони уж пожалуйста сами. "Ничего русопяты сами не умеют: ни с политикой, ни с коммерцией, ни с музыкой – ни с чем не могут самостоятельно справиться". Сгинула и Карева, унесла в вечность и Митькин трешник, взятый в долг на такси. Сын Саши и Гали досматривает сны в психушке, немного не дорос до диссидента. Кто-то из их дальних родственников еще судится за развалюху-дачу, за старенький Москвич…
почти состоявшийся композитор. На органе не пробовал, вот на своем органе плоховатенько получилось, сын родился дебилом и, вот что обидно, немузыкален. Меланхолический бэби. А вот папеле Александр и на баяне может, только на гармони уж пожалуйста сами. "Ничего русопяты сами не умеют: ни с политикой, ни с коммерцией, ни с музыкой – ни с чем не могут самостоятельно справиться". Сгинула и Карева, унесла в вечность и Митькин трешник, взятый в долг на такси. Сын Саши и Гали досматривает сны в психушке, немного не дорос до диссидента. Кто-то из их дальних родственников еще судится за развалюху-дачу, за старенький Москвич…
 Тогда она еще в стареньких шмотках пробавлялась. А уж потом, став полуизвестной, вокалила аж по концзалам и даже в доме СОЮЗОВ пела городские романсы, зачастую пускала петуха-курицу, но публика визжала и плакала от чувств-с, от приобщения к давно сгинувшему и казалось навсегда потерянному. Естественно, кто же, как не Карева истинно по-русски может исполнить русский романс?! Да, да, да – вторил ей пианист-фортепьянист-роялист-аккордеонист,
Тогда она еще в стареньких шмотках пробавлялась. А уж потом, став полуизвестной, вокалила аж по концзалам и даже в доме СОЮЗОВ пела городские романсы, зачастую пускала петуха-курицу, но публика визжала и плакала от чувств-с, от приобщения к давно сгинувшему и казалось навсегда потерянному. Естественно, кто же, как не Карева истинно по-русски может исполнить русский романс?! Да, да, да – вторил ей пианист-фортепьянист-роялист-аккордеонист,  почти состоявшийся композитор. На органе не пробовал, вот на своем органе плоховатенько получилось, сын родился дебилом и, вот что обидно, немузыкален. Меланхолический бэби. А вот папеле Александр и на баяне может, только на гармони уж пожалуйста сами. "Ничего русопяты сами не умеют: ни с политикой, ни с коммерцией, ни с музыкой – ни с чем не могут самостоятельно справиться". Сгинула и Карева, унесла в вечность и Митькин трешник, взятый в долг на такси. Сын Саши и Гали досматривает сны в психушке, немного не дорос до диссидента. Кто-то из их дальних родственников еще судится за развалюху-дачу, за старенький Москвич…
почти состоявшийся композитор. На органе не пробовал, вот на своем органе плоховатенько получилось, сын родился дебилом и, вот что обидно, немузыкален. Меланхолический бэби. А вот папеле Александр и на баяне может, только на гармони уж пожалуйста сами. "Ничего русопяты сами не умеют: ни с политикой, ни с коммерцией, ни с музыкой – ни с чем не могут самостоятельно справиться". Сгинула и Карева, унесла в вечность и Митькин трешник, взятый в долг на такси. Сын Саши и Гали досматривает сны в психушке, немного не дорос до диссидента. Кто-то из их дальних родственников еще судится за развалюху-дачу, за старенький Москвич… Квартира №77
Крыловы. Родо, – а может уродо?.. – начальницей была Агафья. Старуха-Ха-Ха стра-ха. Без лица, гобся дрица об-цацА. Прикидон ее мог быть из чего ни попадя. Может старая одеялка, а может быть салфетка, а может и простынка, по площади дыр превосходящая обрамляющую ее материю. У нее было две (!!) комнаты. Видели ее с горшком, полным мочи, фланирующей из комнаты в комнату или в сортир. Дочь ее, Крылиха, корреспондент "Известий," бордово-пунцовомордая, протоколистка-морфинистка. И на этот горшок нашлась крышка: писа-пис-ссатель ох-Охотников. Сочинял он о снаряде, пробивающемся сквозь тернии и камни к своим, а может и к чужим. Почему-то предпочитал нашу кухню. Медленно, сосредоточенно восходил он из своего далека, от изгиба коридора со скворцом на плече, таким же молчаливым и неподвижным, как и его ходячая подставка.  Сам Ох-Охотников при своей квадратности и бесшейной тучности был ничем не примечателен, если не считать наличия у него борматофона – порт-противного магнитофона и демонстрируемого через незанавешенные окна оголтелой натуры, то бишь, оголенных тел писателя и бескрылой Крылихи. Было у них двое тихих и голодных сыновей: Юра и, кажется,
Вова. Потом, (гм), бедствовали они самостийно. Увлекались поэтами Серебряного века, поиском родственников, ради хлеба корочки и, кажется, насчет курья Машки с Ванькой, то бишь мари-хуаной. Квартиру подразделять не стали, так и осталась № 77.
Сам Ох-Охотников при своей квадратности и бесшейной тучности был ничем не примечателен, если не считать наличия у него борматофона – порт-противного магнитофона и демонстрируемого через незанавешенные окна оголтелой натуры, то бишь, оголенных тел писателя и бескрылой Крылихи. Было у них двое тихих и голодных сыновей: Юра и, кажется,
Вова. Потом, (гм), бедствовали они самостийно. Увлекались поэтами Серебряного века, поиском родственников, ради хлеба корочки и, кажется, насчет курья Машки с Ванькой, то бишь мари-хуаной. Квартиру подразделять не стали, так и осталась № 77.
 Сам Ох-Охотников при своей квадратности и бесшейной тучности был ничем не примечателен, если не считать наличия у него борматофона – порт-противного магнитофона и демонстрируемого через незанавешенные окна оголтелой натуры, то бишь, оголенных тел писателя и бескрылой Крылихи. Было у них двое тихих и голодных сыновей: Юра и, кажется,
Вова. Потом, (гм), бедствовали они самостийно. Увлекались поэтами Серебряного века, поиском родственников, ради хлеба корочки и, кажется, насчет курья Машки с Ванькой, то бишь мари-хуаной. Квартиру подразделять не стали, так и осталась № 77.
Сам Ох-Охотников при своей квадратности и бесшейной тучности был ничем не примечателен, если не считать наличия у него борматофона – порт-противного магнитофона и демонстрируемого через незанавешенные окна оголтелой натуры, то бишь, оголенных тел писателя и бескрылой Крылихи. Было у них двое тихих и голодных сыновей: Юра и, кажется,
Вова. Потом, (гм), бедствовали они самостийно. Увлекались поэтами Серебряного века, поиском родственников, ради хлеба корочки и, кажется, насчет курья Машки с Ванькой, то бишь мари-хуаной. Квартиру подразделять не стали, так и осталась № 77.Квартира № 78
Квартира, как потом оказалось, из трех комнат, с тремя, соответственно, дверьми. А пока, пройдя мимо двух, окажешься перед вознесенной на ладонь от пола нижней кромкой высокой двухстворчатой белой двери. Все старые дореволюционные толстотельные, обрамленные и солидные создавали ложное чувство защищенности, какой-то скрытости. Здесь обретались Коншины. Глава, вернее, тело – массивный, тучный и сопящий при движении по коридору Коншин, подобен был локомотиву, но останавливался он не в депо, а в сортире, где и задержался однажды уж невыносимо долго. Так что пришлось заглянуть в "зекалку" – прорезанную в двери щель. Висел он на ладно связанном ремне, притороченном к влажной ржаржавленной с коленом трубе. Через эту же "зекалку" ножичком откинули крючок, сняли пятипудового бывшего владельца ювелирного и, раз-два, взяли, с трудом и потом отнесли его, бедолагу, до дома – до хаты. Правда, ступенька перед его дверью стала виной шишки у него на затылке. Выронили немножко. А так, даже очень ничего: он по-прежнему пропыхтивал, ни с кем не здороваясь, до своего любимого сортира и, уж больше не задерживаясь, возвращался во свои свояси. Золото стало причиной прихода трех решительных и находчивых чекистов-гебистов, решивших, что у бывшего ювелира кое-что осталось. Золото. Находчивость без сообразительности не дала результата, не дала золота. Дочерей Милу и Лелю с куклой на руках отправили на время эксцесса к соседям. Отец семейства 79 Алексей по паспорту, Ленькапо прозвищу, буйноголовый и голубоглазый, напоил девчушек чаем, и они завихрились, забылись в играх с разговорчиками и пришептываниями с почти ровесниками – старшейЛерой (не к ночи будь помянута) и Митей. Гебисты ушли, шурша кожей курток. Мила с Лелей тоже нехотя возвернулись до дома. Ленька-Зубр вслед за ними отнес их тяжелую куклу. Золото. Ленька никогда в жизни не желал и не брал чужого.
Мать иха, Эльвира Рудольфовна, длиннющая и худая, изредка появлялась в коридоре в верхней одежде, на улицу или с улицы. Там где-то она видимо-невидимо писала-какала. А может и ничего подобного, только никто ее не видел идущей в туалет: видимо память о висельнике напрочь затворила для нее дверь в шлакосбрасывательную. Была у них еще и тетка Евгения Юрьевна, попросту Женя. Кто-то из родственников завез ей мешок муки и бидон меда, это и определило всю ее дальнейшую судьбу. А пока началась война. Немцев, людей-человеков немецкого происхождения, выселяли из Москвы. В Казахстан. Семья, вернее четыре-я: Коншин Щин-Кон, евойная жена Эльвира и доченьки-дочурки: длинная верста, Милка, колченогая, вся в маменьку, и милая, аккуратненькая, голубеньглазая, золотоволосая, певучая (ох!) Леля. Юлело-Лель-Леленька, никого прелестней в мире во все века не было, да и быть не могло. Живая жизнь. Пока еще. Приветливая Леля частенько беседовала с Митькой. Он театрал, и не проходило недели, чтобы он не посетил какой-либо из близлежащих храмов искусств. К обоюдному удовольствию они весело обсуждали спектакли, тем более что Леля была в курсе всех постановок и обладала прекрасной музыкальной памятью. Шутя она, деланно заигрывая, вопрошала: "На кого мы сегодня похожи?" Да и вправду Митька обладал каким-то неизъяснимым свойством: быть похожим сразу на очень многих людей. То на улице к нему бросилась незнакомая женщина с криком "сыночек!", то пол-улицы здоровается с милыми улыбками, а то и с расспросами пристанут. Хорошо что на врагов их не похож, а то бы быть частенько битому; на хороших людей похож. На сегодня Леля решила, что Митька олицетворяет Максима, что ни на есть, Горького, а вчера он был копия, ну сам Лермонтов.
Осталась их Дальняя родственница татаро-монгольского исхождения, что ясно читалось на ее блюдцеобразном лице. Тетя Женя проживала за дверью № 78-А. Во время войны определившийся сосед в комнате напротив, Петров – сын старший, Виктор Васильевич, положил жаднющие глазенки на привезенный из деревни родственниками тети Жени мешок с мукой и на бидон с медом. Положил он и руки свои жадные на тетю Женю.  Свадьбы не было. Тогда все было просто. А еще до окончания войны Леля одна вернулась в Москву, поступила в юридический, немного поучилась. Потом ее вызвали куда надо и приказали возвернуться в неродной Казахстан, где толстотельный папенька уж частично приобщился к неплодородной целинной земле. Леля, моя непревзойдимая, в аудитории, забравшись на парту, а затем и на стул, просунула свою милую головку через-сквозь петлю, закрепленную ею в светильнике, и сиганула шажком в темень неизвестного. Вынули, пожурили и предложили доказать свою лояльность обещанием информации о нелояльностях. После она вызамужалась за Нюму. Их семья не немецкая, не какая-то иностранная, а вполне и вхуде их: семь-семитовая-я, жили не хуже остальных людей. Сытый Нюма поял, то бишь поимел, красотку-славяночку немецкого происхождения. Надолго ли? Как-то на вечеринке, нажравшись и напившись некошерной пищи, кошерная компания расходилась-разгулялась, разболталась-расхохмилась и, соревнуясь, стала травить политические анекдоты. Информация о нелояльном. Ленинская премия – 10 лет для всей кодлы. А в аккуратном пузике у Лели уж вызрел нюмин Выпер-дыш. Ох... Как о них писать-рассказывать, когда знаешь, чем дело кончится? Так что Выпер. Оставим его лет на десять-пятнадцать, пусть поживет, построит планы… Окончив десятилетку, Выпер на велике рванул домой за клевыми звукозаписями для выпускной тусовки. На Колхозной с разгона ударился виском о торчащий костыль-рычаг борта грузовика и отправился в небо над целиной, рассказать дедушке Коншину о земной юдоли. Не долили.
Свадьбы не было. Тогда все было просто. А еще до окончания войны Леля одна вернулась в Москву, поступила в юридический, немного поучилась. Потом ее вызвали куда надо и приказали возвернуться в неродной Казахстан, где толстотельный папенька уж частично приобщился к неплодородной целинной земле. Леля, моя непревзойдимая, в аудитории, забравшись на парту, а затем и на стул, просунула свою милую головку через-сквозь петлю, закрепленную ею в светильнике, и сиганула шажком в темень неизвестного. Вынули, пожурили и предложили доказать свою лояльность обещанием информации о нелояльностях. После она вызамужалась за Нюму. Их семья не немецкая, не какая-то иностранная, а вполне и вхуде их: семь-семитовая-я, жили не хуже остальных людей. Сытый Нюма поял, то бишь поимел, красотку-славяночку немецкого происхождения. Надолго ли? Как-то на вечеринке, нажравшись и напившись некошерной пищи, кошерная компания расходилась-разгулялась, разболталась-расхохмилась и, соревнуясь, стала травить политические анекдоты. Информация о нелояльном. Ленинская премия – 10 лет для всей кодлы. А в аккуратном пузике у Лели уж вызрел нюмин Выпер-дыш. Ох... Как о них писать-рассказывать, когда знаешь, чем дело кончится? Так что Выпер. Оставим его лет на десять-пятнадцать, пусть поживет, построит планы… Окончив десятилетку, Выпер на велике рванул домой за клевыми звукозаписями для выпускной тусовки. На Колхозной с разгона ударился виском о торчащий костыль-рычаг борта грузовика и отправился в небо над целиной, рассказать дедушке Коншину о земной юдоли. Не долили.
 Свадьбы не было. Тогда все было просто. А еще до окончания войны Леля одна вернулась в Москву, поступила в юридический, немного поучилась. Потом ее вызвали куда надо и приказали возвернуться в неродной Казахстан, где толстотельный папенька уж частично приобщился к неплодородной целинной земле. Леля, моя непревзойдимая, в аудитории, забравшись на парту, а затем и на стул, просунула свою милую головку через-сквозь петлю, закрепленную ею в светильнике, и сиганула шажком в темень неизвестного. Вынули, пожурили и предложили доказать свою лояльность обещанием информации о нелояльностях. После она вызамужалась за Нюму. Их семья не немецкая, не какая-то иностранная, а вполне и вхуде их: семь-семитовая-я, жили не хуже остальных людей. Сытый Нюма поял, то бишь поимел, красотку-славяночку немецкого происхождения. Надолго ли? Как-то на вечеринке, нажравшись и напившись некошерной пищи, кошерная компания расходилась-разгулялась, разболталась-расхохмилась и, соревнуясь, стала травить политические анекдоты. Информация о нелояльном. Ленинская премия – 10 лет для всей кодлы. А в аккуратном пузике у Лели уж вызрел нюмин Выпер-дыш. Ох... Как о них писать-рассказывать, когда знаешь, чем дело кончится? Так что Выпер. Оставим его лет на десять-пятнадцать, пусть поживет, построит планы… Окончив десятилетку, Выпер на велике рванул домой за клевыми звукозаписями для выпускной тусовки. На Колхозной с разгона ударился виском о торчащий костыль-рычаг борта грузовика и отправился в небо над целиной, рассказать дедушке Коншину о земной юдоли. Не долили.
Свадьбы не было. Тогда все было просто. А еще до окончания войны Леля одна вернулась в Москву, поступила в юридический, немного поучилась. Потом ее вызвали куда надо и приказали возвернуться в неродной Казахстан, где толстотельный папенька уж частично приобщился к неплодородной целинной земле. Леля, моя непревзойдимая, в аудитории, забравшись на парту, а затем и на стул, просунула свою милую головку через-сквозь петлю, закрепленную ею в светильнике, и сиганула шажком в темень неизвестного. Вынули, пожурили и предложили доказать свою лояльность обещанием информации о нелояльностях. После она вызамужалась за Нюму. Их семья не немецкая, не какая-то иностранная, а вполне и вхуде их: семь-семитовая-я, жили не хуже остальных людей. Сытый Нюма поял, то бишь поимел, красотку-славяночку немецкого происхождения. Надолго ли? Как-то на вечеринке, нажравшись и напившись некошерной пищи, кошерная компания расходилась-разгулялась, разболталась-расхохмилась и, соревнуясь, стала травить политические анекдоты. Информация о нелояльном. Ленинская премия – 10 лет для всей кодлы. А в аккуратном пузике у Лели уж вызрел нюмин Выпер-дыш. Ох... Как о них писать-рассказывать, когда знаешь, чем дело кончится? Так что Выпер. Оставим его лет на десять-пятнадцать, пусть поживет, построит планы… Окончив десятилетку, Выпер на велике рванул домой за клевыми звукозаписями для выпускной тусовки. На Колхозной с разгона ударился виском о торчащий костыль-рычаг борта грузовика и отправился в небо над целиной, рассказать дедушке Коншину о земной юдоли. Не долили.Леля легла на кушетку, поставила на животик тазик с теплой водой и резанула бритвочкой по запястью, опустив в тазик ладошку. Теряя сознание, стала слабо стонать, а восковая ладошка соскользнула, потянув за собой тазик со ставшей алой святой водой. Проходившая мимо Мама перед ступенькой задержалась, услышав стон. Конечно крик, переходящий в визг, суета, маята, скорая помощь-03. Вернулась Леля и зажила по-прежнему, только, видимо, работать стала. Сослуживец появился и поселился. Двухметроворостый, угрюмый и заносчивый. Гера-Убийца, мать его… не знаю как зовут. Знаю, что работала она в распределителе, мать его… А посему жили они вкусно и сыто.
Тетя Женя в "Метрополе" продавала литерные ж-д билеты. Виктор Васильевич скупал продуктовые карточки, отоваривал их в продмаге и возил результаты своих комбинаций на реализацию куда-то на периферию. Вот когда его посадили, мать его Афанасья Григорьевна поведала по секрету всей кухне, что его по политической статье приговорили к отсидке. Леля, якобы, тайно фотографировала ее сына за чтением запрещенных книг, и соответствующее фото фигурировало в качестве доказательства на суде. Уж сколько он отбывал, точно неизвестно, лет пять, что ли. Только теперь он подолгу фыркал на кухне под краном, поясняя, что ТАМ это было единственным удовольствием. Преподавал В.В. в институте, но по политическим соображениям лекций ему не давали, продвижение по службе тормозили. Но он, упрямый и трудолюбивый, написал и защитил докторскую диссертацию. Про Индию что-то. Дочка у них была Наташа, доктором стала, стервою стала. Стариком-папаней, бывшим политзаключенным, помыкает. Живут где-то поблизости на Петровско-Разумовской. А может, уже и не живут. В их время напротив, через коридор в комнате с окнами на Столешников, жили Вась и Аф. Григи. Афанасья Григорьевна, поповского происхождения, домохозяйка. Шаркала по коридору от двери к двери, в поисках свежих интересненьких жареных и слабо присоленных подробностей частной жизни обитателей-обывателей. Задерживалась подолгу у наиболее содержательных разглагольствований, а, увлекшись, могла приоткрыть дверь и спросить: "Что-что вы тут про моего Васю сказали?" Ну, а Василий Григыч зарабатывал свои честные деньги частными уроками по физике, по математике для состоятельных митрофанушек состоявшихся родителей. Младший их сын Евгений работал в очень интересном месте – там целый день крутили кино, преимущественно иностранное, для избранных и приглашенных. Так что, удалось приобщиться к западной культуре. По вечерам на ночь глядя кто-нибудь из мужчин, выйдя в коридор, резко взмахивал дверью, плавно прикрывал и так много-много раз. Кондиционер по-кулибински. Нет воздуха в комнатушке, форточкой не проветришь, а окно не откроешь – шум, гам, да и пьянь тут разная шатается-матюгается.. Зато имел Евгений "Победу", под окнами в переулке она стояла. Это и был его индивидуальный дом. Хааррошая машина, аппарат. Встретил его тут недавно в молочной, кушал он сырок из обертки и приглашал звонить и приходить. Да, естественно, и у него была жена Лида, с неестественными телесами при естественном высоченном росте, а вот детей у них не завелось.
Ну так, Убийца-гебист: по городу в темных очках бродит и делает вид, что ему все безразлично. По коридору Убийца как законный Лелин муж вышагивал размеренно и точно, вбивая каблуками головки гвоздей, торчащих из стертых дореволюционных половых досок коридора. Так, что во всех комнатах знали: по коридору шел он, дознатель, топтун и фланер. Леля, видимо, тоже при деле была. Дали им квартиру аж на шестом, а может и на девятом этаже новостройки. Но до этого еще одно происшествие. С фронта вернулся ее дядя, дядя Вова. Сувенирчик привез – пиздолетик махонький, дамский. Леля и стрельнула себе под левую грудку, на сантиметр промахнулась. В мире случайного нет, только проявление необходимости. Опять-таки Мама оказалась перед ступенькой, опять усышала сдавленный стон. Вскрик, взвизг. Васька Ахматов, за ступенькой справа первая дверь, выскочил, выпрыгнул, не тормозя плечом, вышиб дверь. На той же кушетке вся в кровях белокожая и прекрасная стонала Леля, Лелечка. Опять 02. Опять скорая, опять больница. Потом вернулась, забыв в палате соседскую серебряную ложечку. Казалось, вернулось все в коридоры свои.
Квартира № 79
Это после ступеньки первая дверь налево. Два звонка со второй кнопки. И по звонку в коридор, кто-нибудь из 79-ой стремглав несся открывать. Раз так по звонку понеслась открывать дверь подросшая Аля младшенькая, споткнулась и шляпкой дореволюционного гвоздя вырвала клок кожи с колена. Митька рану перекисью промыл, по краям рану йодом обозначил и пришлепал оторванный кусок кожи; через три дня снятый бинт оголил приросшую заплату. Аля родилась со странными отклонениями: у нее не разгибался средний палец правой руки, и глаза немного косили. Палец-то быстро поставили на место – ванночками с горячей водой в кружке вылечили. Для глаз же пришлось сделать прибор в виде фанеры с вырезанным профилем Али и двумя лампочками напротив нужного положения зрачков. Пара месяцев вечернего сидения перед этим аппаратом поставили глаза на место... ну, почти на место. Осталось небольшое косоглазие, придававшее Але некий интригующий шарм.
Семья Зубров одной из первых поселилась в единственной двухкомнатной квартире, разгороженной дверью с остекленной перегородкой поверху. Зубровы. Отец семейства, выходец из маленькой деревушки на границе Беловежской Пущи, молодой инженер, вскорости перешедший в институт, проработал 56 лет от рядового педагога до профессора, заведующего кафедрой. Отмечен наградами от алюминиевого чайника за ударную работу в ЦАГИ до ордена "Веселые ребята" – Знак Почета. Мать тамбовского происхождения, из семьи относительно зажиточного писаря. До войны обзавелись двумя дочерьми и одним сыном. Лера, Митя, Аля и послевоенный Боба. Лера блондинистая, голубоглазая, внешне привлекательная, всю свою паразитическую жизнь котовасила, вернее куролесила. Трижды побывав замужем и разойдясь, с каждым поскандалив, осталась вроде как одна с дочерью и внучкой, никому не нужная и всем противная. Сто лет училась, лет пять работала, везде скандалила, юлила и изворачивалась. Греша всю неосознанную жизнь, к старости стала интересоваться, есть ли Бог на свете (умирать-то страшно). Придется ли всю оставшуюся бесконечность расплачиваться за грехи свои тяжкие? Митя-"сосед", обладатель неприятно пронзительного взгляда, по следам отца года три на заводе инженером вкалывал, где и выпивал по-хорошему. Сорок с небольшим хвостиком педагогил, тоже до заведующего кафедрой в трех-четырех институтах, а на молодой старости, на пенсии в школу подался, технарь историю ведет, (историко-философское образование между делом сподобился получить). Чеканил почему-то святых и пророков, вырезал из цельных бревен черных идолов, маслом и гуашью картины малевал. Кое-что у него получалось: расписал двухметровыми фигурами "а-ля Бакст" школьный актовый зал. Тоже хорош, трижды женат, сейчас с третьей, моложе себя на четверть века живет, троих же детей (от каждой по штуке) заимел. В своих привязанностях постоянен: ему, видите ли, подростковые и чистенькие нравятся. Сам морально просветит и по боку. В свои семьдесят еще хорохорится. Аля, та все за границей проживает, Курица не птица, Польша не заграница. Ей, конечно, видней. Там у нее дочь, дом и дача. Ну и проститутка-муж, оконеченно. Боба рос последним в относительно благополучное время. В артисты подался. В Малом большие роли маловероятно получить, они обычно по наследству династийно переходят. Ну и для русских персонажей нужны нерусские исполнители, со стороны, вроде как, виднее.
Множество знакомых посещало Зубров. Был такой Добродеев, частенько захаживавющий. С доброй и хитроватой улыбкой он был прекрасным рассказчиком присоленных анекдотов. Любил застолье и домашний уют, которого за всю свою одинокую жизнь гуляки-холостяка так и не добился. Почти периодически появлялся Мануйлов, когда-то оказавший неоценимую услугу Зуброву, когда того за связь с заграницей, (писал письма матери в панскую Польшу), уволили из ЦАГИ с волчьим билетом, без права работы по специальности. Не помог и свояк Ильича Елизаров, к которому на прием ходил Зубров, a помог Мануйлов, определив к себе в Гипроверфь. В капитанской фуражке с кокардой заходил Селезнев с отчетом об очередном загранплавании. Пришлось ему после об этих впечатлениях рассказывать в обстановке не очень к рассказам располагающей. Зато появилась новая тема для обсуждений. Дружили семьями с Сетровыми, Николай сам секретарствовал у Калинина, но оказался на фотографии рядом с троцкистом. 25 лет на Колыме, плюс 5 в поселении. Вернулся к семье. Раз пришел в гости, когда уж старшие съехали, посидел, помолчал и ушел, забыв галоши. А вот тогда, когда его взяли, Зубровы всей семьей ездили к ним на Моховую, помогли семье собраться в Казахстан на пятилетнее поселение. Николай-то затейник был, раз, нализавшись со товарищи, заперлись в женское отделение, одевшись для правдоподобия докторского звания в белые халаты. Нащупались, насмотрелись, на все 25 хватило. Из коридора ни одного троцкиста или бухаринца не нашлось. В общем, за что Николай Сетров чаял четвертак, сам знал. Вот еще один сиделец – жизнелюб Кисурин. Посидел немного и вернулся руководить заводом в Туле. Приехал погостить в конце войны, самовар в подарок привез, погулял, покуролесил, вернее покотовасил. Раз, утром в окно снежки кидает, пустите, стало быть, поспать погреться. Зашел в дом, а писька, как доставал он ее на стену помочиться, так на морозе и осталась. Распухла, кастрюлькой не прикроешь, да и сам припухать стал, пришлось Матери свои медицинские познания проявлять. Обошлось. Заезжал Сохненко, картавый жмот из Киева. Съездили как-то в ответ к нему Зубровы и зареклись, ни сном, ни духом. Шопик еще был, из шкловских знакомых. Во время войны в Орше взяли его немцы на работу, хлеб развозить из пекарни по казармам, а он по пути весь хлеб встречным-поперечным роздал. Естественно, били, не сильно, в самый раз. Пожил он у Зубров не долго, но достаточно. После того как он на Пушкинской площади на свидании с девушкой разулся и пошел босиком домой от ретировавшейся потенциальной невесты, ему посоветовали вернуться восвояси. Знаменский изредка захаживал, это бывший по ЦАГИ сослуживец Леньки, склонного всегда преувеличивать заслуги и значение своих знакомых. Так, он был уверен, что Знаменский ответственнейший из ответственных за космос. У того рано скончалась жена, и пришлось ему, бедолаге, самому воспитывать сына. Митьке довелось поговорить по делу с повелителем космоса и в результате создалось впечатление, что тот – просто рядовой исполнитель, которому не осталось места с приходом профессиональных коридорных говорунов, заполнивших престижные и хорошо оплачиваемые вакансии. Потом они разбежались в другие места, где и платили больше, и коридоры были привлекательней. Знаменский же к тому времени откинулся, а так как родственников у него не наблюдалось, то все хлопоты по успокоению покойного взял на себя по собственной инициативе Ленька. Были и знакомые Матери, например, Федяня Гунлявый, известный тем, что в детстве бегал по Инжавину без штанов, зато с соплями. В войну он в майорском
звании служил в Кремле, а у Зубров демонстрировал свою особую значимость: под визг испуганной
хозяйки чистил, разбирал и собирал вороненый пистолет. Были и другие: Инжавинские девицы, выписывала их хозяйка для ухода за детьми, т. к. сама работала в дезбюро. Они вскорости вписывались в трудовую столичную
жизнь. Из другой области, из женской консультации, была Анна Санна, приятельница. Неприятно откровенно ухлестывала за хозяином, исщипала ему все ноги, пока сидели за столом. Пришлось общение сократить до минимума. Ан Сан не унывала: как-то раз, едва не оторвав уже собственному мужу причинное место, изгнала его с глаз долой из сердца вон. А сама нашла себе на Неглинке старого – седого и едва живого, Агасфера. Успела прописаться и все переоформить и благополучно отправила молодожена прямехонько в крематорий.
Особ статья – родственники. Подолгу гостевали отец хозяйки дед
Михан и жена его Марем, она так и осталась в Москве на кладбище. Дед же, после недельной отсидки – проверки на вшивость в Бутырской, подался в Магнитку, где и осел, вернее отлег. Оттуда к Зубровым наезжали и жили по очереди родственнички. Михаил – брат, убитый в войну. Его по молодости завербовали в сексоты, так он потом всю оставшуюся жизнь пытался убежать от малодушного обязательства: добровольцем подался в Маньчжоу-Го, и на финскую, и на отечественную, пока
его по пути на фронт не разбомбили. МладшенькийПетр вскорости в армию ушел, где и дослужился до полковника, до гробовой доски. Тоже в войне участвовал, в японской ее части. Живой остался и с наградами. Он пухлую тетрадочку, достояние многих поколений Одиных со страху, вызванного уходом сестры Шурочки от Носова, утопил в Тихом океане. Это он стал носителем устной истории происхождения Одиных, он же и нашел себе помощничка из инжавинских, однофамильца, дальнего родственника. Пригласил, перевел в Генштаб ВВС, где и был им, своим протеже, предан-дискредитирован, отправлен на пенсию, на забвение. Пожила в 79-ой и старшая сестра Мамы – Зина. Ушла замуж за Артемова, психа, ходившего во френче, так как работал он в органах, каких – не известно, но имел черный наган, из которого постреливал в угол своей комнаты в полуподвале на Пятницкой. В конце концов, он опрокинул в пивной бочку с пивом, обозвал хазара его же именем, был арестован, и где-то между туберкулезной и психической больницами успокоился бедный стрелок. Заезжала в Москву за ширпотребом и любимица деда с бабкой Шурочка с мужем, Похвалинские. Шура у всея Урала Носова работала, пока кто-то не стукнул, что она, мол, дочь кулака. Носов извинился, но от дальнейших ее услуг отказался. Миша, муж ее, на охоте бросил с лодки на берег ружье. Попал себе в ляжку, и гангрена, и город далеко, а кладбище не ближе, но нашлось. Вот Зубровых родственников не бывало, они все за границей в Польше у самого кордона Беловежи проживали, ну а остальное понятно. Всем и не накланяешься. Хирон, который хер он, умаялся, перевозя через Стикс-Лету все эти семь миллиардов, а уже новых семь народилось. Сколько же это трудиться надобно, если считать, что только один из десяти в цель, да в нее никто и не целится. Человечество размножается с безответственностью трески.
Старшие Зубровы переехали на Огородный, в отдельную квартиру, заработал таки на старости, за 60 трудовых лет, две смежные комнатки. На Столешниках остался Митя со второй женой, первая давно была за новым мужем Шестижиевым, Хирон уж и о нем позаботился. Так эта вторая со всеми коридорными ладила, даром, что ли, грузинка-армянка. Ее дочь весь коридор нянчил: вернутся родители с работы и ищут по комнатам: передавали ее с рук на руки по мере необходимости ухода в город. Вот они-то и завершили мрачную эпопею коридорного существования, хотя впервые за всю историю у них собирались все эти "няньки" и весело, под пианино или гитару, с песнями и плясками отмечали общие праздники. Колхоз, мать его.
Однажды в комнату постучался татарчонок Гена, вошед, положил на стол завязанную в бело-голубой горошек поклажу. Со словами извинений "это, мол, наследие от отдавшего концы последнего мужа тещи", он, тесть, значит, прослышав про Митины увлечения и способности, завещал заочно ему икону. Гена поспешно ретировался, а Митя, развернув платок, обнаружил застекленный киот, а в нем лик Пантократора, то бишь, Вседержителя. Раскрыв дверцу, за иконой обнаружил рукопись на церковнославянском, а на тыльной стороне изогнувшейся от времени доски, прочерченную гвоздем надпись: "Писать и чеканами: Михаилу и Николаю Одиным". Значительно позже частичный смысл этой надписи стал ясен. Пока же по продольным шпонкам можно было датировать икону серединой XVI века.
Митя после съезда старших удовлетворил давно будоражившее его любопытство. В одном месте левой стены, почти у самого окна, удару молотка по штукатурке глухим гулом отзывалась таинственная пустота. А может, там не совсем пусто? Ничтоже сумняшеся, Митя в азарте быстренько вскрыл слой штукатурки и начал крошить кирпич, который легко рассыпался под ударами нетерпеливого молотка. Открылось пустое пространство с ограничивающими его угловато торчавшими торцами кладки. Это было бы огорчительно, если б не сохраняющее надежды, уходящее куда-то вглубь пространство. Пришлось отверстие расширять, чтобы рука аж по самое плечо ушла в глубину, а уж там почти кончиками пальцев ухватиться за шнурок, туго обвязанный вокруг бумажного свитка. Ободрав плечо и локоть и слегка помяв бумаги, удалось вытащить пыльный сверток, не особенно заинтересовавший искателя сокровищ. Разворотив пролом еще шире и упершись уже ухом и телом в стену, обшарил дно, но и там яро ожидаемых драгоценностей не оказалось. Значительное время спустя Митя все же удосужился разобрать и частично прочитать некогда мало заинтересовавшие его документы об основателе и владельце Дома Селивановском и более интересные сведениях об иллюминатах, масонах, розенкрейцерах, мартинистах и прочих храмовниках.
Комната №80
Пынов-отец, бывший белогвардеец, теперешний пьяница до белой горячицы. В доме хранились офицерские погоны и несколько восьмиконечных крестов на полосатых желто-черных нагрудных колодках. Жена Клавдия-шьюха. Посему в проемах старой темной мебели, заставлявшей стены их двухоконной комнаты стояла ножная швейная машинка Зингер. Клавдия шила только для избранных и старых знакомых. Посему и патента не имела – не нуждалась, потому и налогов не платила – в деньгах сильно нуждалась. Очень сильно. Комната вся-вся завешанная – занавешенная кишела клопами, они даже самостоятельно сигали-сыпались на входящих с занавеси у двери. Кричала она громко и пронзительно, когда ее муж с ножом или ножницами гонял чертей, прыгая через поваливаемые стулья и вскакивая на застеленный ковровой скатертью стол. До войны Пын неоднократно сиживал в тюрьмашечках, отлеживался по больничкам, где он в конце всех концов и сгинул, а в промежутках сидений-лежаний, уничтожал чертей ножами, ножницами да и чем под руку попадется. В результате Клавдия ходила побитая – то ли чертями, то ли бесами. Заставали неоднократно Пына, сидящего на корточках перед чужим столом, лакающим денатуру, предназначенную для разжигания примуса, прямо из горла в свое родное горлышко. Рос у них сынишка, мальчишка сопливый по прозвищу Сопливый.Так и звал его весь двор. Рано приобщился к вину сладенькому мальчик
сопливый. Рос, вырос, сам зарабатывал, сам и покупал вино сладенькое, а иногда и горьконькое. Напротив, через улицу в гастрономе вином торговала миловидная Рита. Потом она торговала в угОльной
булочной. А эти хлебные барышни выглядят румяней и сдобней, чем ваши булочки. Сопливый покупал у Риты вино, а потом и булочки, а потом женой в дом ее привел. Насовсем, значит. Сопливый мастером по счетным электрическим
машинкам работал, мастерски ремонтировал, списывал годные калькуляторы, по сговору с главбухами, реализовывал по сговору с соседом. И пил вино сладенькое, а иногда и горькое. Шампанское он не любил, гад. Сопливый
левые и правые деньги в дрова у соседа прятал, тем более что Митя чужих заработков не трогал. У Риты родилась дочь, Лена. Миловидная хорошенькая девочка. О, как она вторила маме, когда они вместе терзали Сопливого на предмет пропитых денег и оставленных незнамо где одежек. В комнате ему нетрезвому кидали на пол матрас в подтеках землистого цвета, где он и приходил в свое стабильное состояние.  Но время проходило, он снова прибарахлялся, да еще в лучшие шмотки, благо по базам работал. А матрасик, вынесенный в коридор, благополучно благоухал, привлекая клопов и тараканов и отпугивая привередливых соседей. Однажды валялся Сопливый в парадном уже без щи-блет, каша под головой (щи да каша – пища наша). Поднял его Митя, обтер пену с губ и, затащив в коридор, усадил на сундук, вызвал 03. Врач, приехав, сказал, что помощь-то оказывать надо скорее самому Соседу, еле сдерживавшему дрожащие руки и неровное дыхание. Пена-то была от Ритки-стервы, совала она ему без счета таблетки, и в суп положит, и в кашу разотрет, да и в чай вместе с сахаром намешает. Добрая жена. Правда, в приступах ярости она как-то не жалела его – била молотком по пальцам, забывая, что ими-то он и зарабатывал их семейное благо-получие и -стояние. Сосуществовали они вместе с матерью Клавой и ее новым мужем Сашей-Вертухаем. Вертухай всему населению коридора говорил "здрасьте" и деловито, с авоськами в руках, прошагивал по щербатому полу до второй двери после ступеньки. Позже они с Клавдией съехали куда-то в новый коридор. Сопливый какое-то время пил красно-белое, то бишь розуевое. Потом резко бросил пить,
но не курить, купил новенькую машину и в первый – двойной (+ последний) раз проехал до родного завода, продемонстрировал приятелям авто, возжелал посетить свой цех и тут же рухнул наземь всем проспиртованным рыхлым телом. Сердце остановилось. Все же побыл и в цеху, внесли его внутрь други-приятели. Рита, предприимчивая вдовушка, не осталась без навара. Еще работая в "Длинном", напротив Моссовета, гастрономе она пропечатана была в местной многотиражке, как героиня репортажа о вороватых воровочках. А вот теперь, уже работая на том же заводе, где откинул модные штиблеты ее незабвенный и незамененный, она брала на реализацию импортное шмотье-мотье у Разведчицы, и наслюнивала необходимые, так необходимые,
дензнаки. Ежедневно слышался ее визглячий истеричный концерт для дома-для семьи. В антрактах, объявляемых коридорным телефонным звонком, Рита любезническим тоном общалась до "до свиданья", после чего возвращалась к прерванному на полуноте и полувнушении – к плачущей без перерыва дочери. Визжала и плакала Леночка-доченька совсем по-маменькому, когда та вколачивала в ее хорошенькую головку разные арифметики-математики, в попытке пробиться к чужим интеллигентским штучкам. Интересно, что из нее
выросло, из Леночки?
Но время проходило, он снова прибарахлялся, да еще в лучшие шмотки, благо по базам работал. А матрасик, вынесенный в коридор, благополучно благоухал, привлекая клопов и тараканов и отпугивая привередливых соседей. Однажды валялся Сопливый в парадном уже без щи-блет, каша под головой (щи да каша – пища наша). Поднял его Митя, обтер пену с губ и, затащив в коридор, усадил на сундук, вызвал 03. Врач, приехав, сказал, что помощь-то оказывать надо скорее самому Соседу, еле сдерживавшему дрожащие руки и неровное дыхание. Пена-то была от Ритки-стервы, совала она ему без счета таблетки, и в суп положит, и в кашу разотрет, да и в чай вместе с сахаром намешает. Добрая жена. Правда, в приступах ярости она как-то не жалела его – била молотком по пальцам, забывая, что ими-то он и зарабатывал их семейное благо-получие и -стояние. Сосуществовали они вместе с матерью Клавой и ее новым мужем Сашей-Вертухаем. Вертухай всему населению коридора говорил "здрасьте" и деловито, с авоськами в руках, прошагивал по щербатому полу до второй двери после ступеньки. Позже они с Клавдией съехали куда-то в новый коридор. Сопливый какое-то время пил красно-белое, то бишь розуевое. Потом резко бросил пить,
но не курить, купил новенькую машину и в первый – двойной (+ последний) раз проехал до родного завода, продемонстрировал приятелям авто, возжелал посетить свой цех и тут же рухнул наземь всем проспиртованным рыхлым телом. Сердце остановилось. Все же побыл и в цеху, внесли его внутрь други-приятели. Рита, предприимчивая вдовушка, не осталась без навара. Еще работая в "Длинном", напротив Моссовета, гастрономе она пропечатана была в местной многотиражке, как героиня репортажа о вороватых воровочках. А вот теперь, уже работая на том же заводе, где откинул модные штиблеты ее незабвенный и незамененный, она брала на реализацию импортное шмотье-мотье у Разведчицы, и наслюнивала необходимые, так необходимые,
дензнаки. Ежедневно слышался ее визглячий истеричный концерт для дома-для семьи. В антрактах, объявляемых коридорным телефонным звонком, Рита любезническим тоном общалась до "до свиданья", после чего возвращалась к прерванному на полуноте и полувнушении – к плачущей без перерыва дочери. Визжала и плакала Леночка-доченька совсем по-маменькому, когда та вколачивала в ее хорошенькую головку разные арифметики-математики, в попытке пробиться к чужим интеллигентским штучкам. Интересно, что из нее
выросло, из Леночки?
 Но время проходило, он снова прибарахлялся, да еще в лучшие шмотки, благо по базам работал. А матрасик, вынесенный в коридор, благополучно благоухал, привлекая клопов и тараканов и отпугивая привередливых соседей. Однажды валялся Сопливый в парадном уже без щи-блет, каша под головой (щи да каша – пища наша). Поднял его Митя, обтер пену с губ и, затащив в коридор, усадил на сундук, вызвал 03. Врач, приехав, сказал, что помощь-то оказывать надо скорее самому Соседу, еле сдерживавшему дрожащие руки и неровное дыхание. Пена-то была от Ритки-стервы, совала она ему без счета таблетки, и в суп положит, и в кашу разотрет, да и в чай вместе с сахаром намешает. Добрая жена. Правда, в приступах ярости она как-то не жалела его – била молотком по пальцам, забывая, что ими-то он и зарабатывал их семейное благо-получие и -стояние. Сосуществовали они вместе с матерью Клавой и ее новым мужем Сашей-Вертухаем. Вертухай всему населению коридора говорил "здрасьте" и деловито, с авоськами в руках, прошагивал по щербатому полу до второй двери после ступеньки. Позже они с Клавдией съехали куда-то в новый коридор. Сопливый какое-то время пил красно-белое, то бишь розуевое. Потом резко бросил пить,
но не курить, купил новенькую машину и в первый – двойной (+ последний) раз проехал до родного завода, продемонстрировал приятелям авто, возжелал посетить свой цех и тут же рухнул наземь всем проспиртованным рыхлым телом. Сердце остановилось. Все же побыл и в цеху, внесли его внутрь други-приятели. Рита, предприимчивая вдовушка, не осталась без навара. Еще работая в "Длинном", напротив Моссовета, гастрономе она пропечатана была в местной многотиражке, как героиня репортажа о вороватых воровочках. А вот теперь, уже работая на том же заводе, где откинул модные штиблеты ее незабвенный и незамененный, она брала на реализацию импортное шмотье-мотье у Разведчицы, и наслюнивала необходимые, так необходимые,
дензнаки. Ежедневно слышался ее визглячий истеричный концерт для дома-для семьи. В антрактах, объявляемых коридорным телефонным звонком, Рита любезническим тоном общалась до "до свиданья", после чего возвращалась к прерванному на полуноте и полувнушении – к плачущей без перерыва дочери. Визжала и плакала Леночка-доченька совсем по-маменькому, когда та вколачивала в ее хорошенькую головку разные арифметики-математики, в попытке пробиться к чужим интеллигентским штучкам. Интересно, что из нее
выросло, из Леночки?
Но время проходило, он снова прибарахлялся, да еще в лучшие шмотки, благо по базам работал. А матрасик, вынесенный в коридор, благополучно благоухал, привлекая клопов и тараканов и отпугивая привередливых соседей. Однажды валялся Сопливый в парадном уже без щи-блет, каша под головой (щи да каша – пища наша). Поднял его Митя, обтер пену с губ и, затащив в коридор, усадил на сундук, вызвал 03. Врач, приехав, сказал, что помощь-то оказывать надо скорее самому Соседу, еле сдерживавшему дрожащие руки и неровное дыхание. Пена-то была от Ритки-стервы, совала она ему без счета таблетки, и в суп положит, и в кашу разотрет, да и в чай вместе с сахаром намешает. Добрая жена. Правда, в приступах ярости она как-то не жалела его – била молотком по пальцам, забывая, что ими-то он и зарабатывал их семейное благо-получие и -стояние. Сосуществовали они вместе с матерью Клавой и ее новым мужем Сашей-Вертухаем. Вертухай всему населению коридора говорил "здрасьте" и деловито, с авоськами в руках, прошагивал по щербатому полу до второй двери после ступеньки. Позже они с Клавдией съехали куда-то в новый коридор. Сопливый какое-то время пил красно-белое, то бишь розуевое. Потом резко бросил пить,
но не курить, купил новенькую машину и в первый – двойной (+ последний) раз проехал до родного завода, продемонстрировал приятелям авто, возжелал посетить свой цех и тут же рухнул наземь всем проспиртованным рыхлым телом. Сердце остановилось. Все же побыл и в цеху, внесли его внутрь други-приятели. Рита, предприимчивая вдовушка, не осталась без навара. Еще работая в "Длинном", напротив Моссовета, гастрономе она пропечатана была в местной многотиражке, как героиня репортажа о вороватых воровочках. А вот теперь, уже работая на том же заводе, где откинул модные штиблеты ее незабвенный и незамененный, она брала на реализацию импортное шмотье-мотье у Разведчицы, и наслюнивала необходимые, так необходимые,
дензнаки. Ежедневно слышался ее визглячий истеричный концерт для дома-для семьи. В антрактах, объявляемых коридорным телефонным звонком, Рита любезническим тоном общалась до "до свиданья", после чего возвращалась к прерванному на полуноте и полувнушении – к плачущей без перерыва дочери. Визжала и плакала Леночка-доченька совсем по-маменькому, когда та вколачивала в ее хорошенькую головку разные арифметики-математики, в попытке пробиться к чужим интеллигентским штучкам. Интересно, что из нее
выросло, из Леночки?Кухня
Дверь почти всегда открыта внутрь. Слева первый стол по очереди со сменой жильцов переходил от Коншиных к Прошкиной. Она поселилась незнамо откуда.
Из другого коридора.
Комната № 78-А
Валей ее звали. Хозяйку, Прошкину. Глина неразмешанная, а может тесто прокисшее и не сформированное. Горшок с дерьмом со сменными крышками. Основной "крыш" – Коля-кладовщик. Из столовой. Из столовой же он и пер под полой ляжку, то ли бычье-коровью, то ли овце-баранью, а может и хряко-свиную. На ходу скидывал гремящие бесшнурковые размахай-бутсы, кое-как приспускал ватные, стеганые, просаленные, антиморозные шары-вары и хватался уже за Валины, простите, ляжки. "Берешь в руки – маешь вещь, а вещь – говядина", трешник за кг., вернее говнятина. "Любите мужики баб, секс-суйте!" – радовался облегченный Коля. После процесса Валька
вытряхивала на никогда не мытый пол Колины последствия и принималась крутить котлеты. Получалось три-четыре этажа ярко-розовых о-Вальных с белыми сальными вкраплениями мясных пышек. Жарила их на каком-то дымном и прогорклом масле. Вся кухня под завязку заполнялась сальным и густым едким дымом. И какие котлеты без стакана? На первом же десятке подавишься. А так котлета за котлетой, стакан за стаканом, и вся сковородка-поднос готова к следующей жарке. Почти каждый день заходил Женька со двора. Он был вроде грузчика при столовой. Как всегда, в форменной фуражке, сопя почти сухими прыгающими крыльями ноздрей, суетной и нежный он целовал и слизывал пот с задубленной Валькиной кожи. Это ничего, что он дефективный,
дебил и олигофрен. Работал в столовой не меньше, чем кто-либо. Да и сама Валька тоже работала – на заставе там где-то в городе резала картон, с утра до самого, что ни есть, вечера. Раз в две недели закатывался к ней Зюс. Звонил обычно в кв. 79, пояснял вопросом, дома
ли Валентина Петровна и, не смущаясь отповедью, чинно, как на гусеницах в галошах, точно посреди коридора следовал в ее объетель.  Чтоб он не скатился, она придерживала его шершавыми руками. На такую посуду такой
обрезанный маленький кусочек жеваного мяса. Проспринцевав, он все таки сваливался на пол, не спеша деловито одевал маленькое тельце и ушаркивал в свое далекое-далеко с тем, чтобы снова явиться на проце-дуру,
каждый раз честно оставляя на тумбочке новенькую тридцаточку. Потом, когда немного подросла ее дочь Райка, он оставлял уже две бумажки. Райка быстро вошла в ритм, перестала ходить
в школу и успешно (даже с удовольствием) делила мамины занятия. Котлеты, правда, жарила только Валька. Из школы пару раз заходили, справлялись о причинах отсутствия на занятиях. Потом, получив из венерического
диспансера справку о том, что мать-бабка Валя, дочь Райка и дочь-внучка Ольга инфицированы люэсом-сифилисом, оставили их в покое. Лечились они все трое в больнице с решетками на окнах, а младшенькая
– в детской палате. Старших выпустили быстрее, потом семь-(три)-я воссоединились, и их, т.ск., жизнь протекала, струилась. Стирала свое серое белье Валька тщательно. Тщательно и развешивала – при входе на кухню поперек тянувшихся вдоль столов к единственному окну рядов индивидуальных веревок, на свою личную. Люди, входившие на кухню, попадали в мокрые в подтеках простыни, чертыхались и требовали убрать веревки, белье да и саму Вальку вместе с дочкой и внучкой. Пусть репку тягают. Однажды и убрали. После многократных возлияний и приема нескольких постоянных посетителей, Валька при открытых дверях валялась на полу в своем же доме в своем же голом теле. Не понравилось. Вызвали милицию, 03, забрали в Бутырки на 15 суток. Вернулась вся из себя простуженная, кашляющая. Злая, но молчаливая. Протекала, струилась… Шла по коридору поддатая, шаркала толстую ногу об ногу толстую. Вжик-вжик. Шла в конец коридора к сортиру, а путь ее отмечал мочевой ручеек и дурно парящие вешки. Как Мальчик-с-пальчик со своими камешками.
Чтоб он не скатился, она придерживала его шершавыми руками. На такую посуду такой
обрезанный маленький кусочек жеваного мяса. Проспринцевав, он все таки сваливался на пол, не спеша деловито одевал маленькое тельце и ушаркивал в свое далекое-далеко с тем, чтобы снова явиться на проце-дуру,
каждый раз честно оставляя на тумбочке новенькую тридцаточку. Потом, когда немного подросла ее дочь Райка, он оставлял уже две бумажки. Райка быстро вошла в ритм, перестала ходить
в школу и успешно (даже с удовольствием) делила мамины занятия. Котлеты, правда, жарила только Валька. Из школы пару раз заходили, справлялись о причинах отсутствия на занятиях. Потом, получив из венерического
диспансера справку о том, что мать-бабка Валя, дочь Райка и дочь-внучка Ольга инфицированы люэсом-сифилисом, оставили их в покое. Лечились они все трое в больнице с решетками на окнах, а младшенькая
– в детской палате. Старших выпустили быстрее, потом семь-(три)-я воссоединились, и их, т.ск., жизнь протекала, струилась. Стирала свое серое белье Валька тщательно. Тщательно и развешивала – при входе на кухню поперек тянувшихся вдоль столов к единственному окну рядов индивидуальных веревок, на свою личную. Люди, входившие на кухню, попадали в мокрые в подтеках простыни, чертыхались и требовали убрать веревки, белье да и саму Вальку вместе с дочкой и внучкой. Пусть репку тягают. Однажды и убрали. После многократных возлияний и приема нескольких постоянных посетителей, Валька при открытых дверях валялась на полу в своем же доме в своем же голом теле. Не понравилось. Вызвали милицию, 03, забрали в Бутырки на 15 суток. Вернулась вся из себя простуженная, кашляющая. Злая, но молчаливая. Протекала, струилась… Шла по коридору поддатая, шаркала толстую ногу об ногу толстую. Вжик-вжик. Шла в конец коридора к сортиру, а путь ее отмечал мочевой ручеек и дурно парящие вешки. Как Мальчик-с-пальчик со своими камешками.
 Чтоб он не скатился, она придерживала его шершавыми руками. На такую посуду такой
обрезанный маленький кусочек жеваного мяса. Проспринцевав, он все таки сваливался на пол, не спеша деловито одевал маленькое тельце и ушаркивал в свое далекое-далеко с тем, чтобы снова явиться на проце-дуру,
каждый раз честно оставляя на тумбочке новенькую тридцаточку. Потом, когда немного подросла ее дочь Райка, он оставлял уже две бумажки. Райка быстро вошла в ритм, перестала ходить
в школу и успешно (даже с удовольствием) делила мамины занятия. Котлеты, правда, жарила только Валька. Из школы пару раз заходили, справлялись о причинах отсутствия на занятиях. Потом, получив из венерического
диспансера справку о том, что мать-бабка Валя, дочь Райка и дочь-внучка Ольга инфицированы люэсом-сифилисом, оставили их в покое. Лечились они все трое в больнице с решетками на окнах, а младшенькая
– в детской палате. Старших выпустили быстрее, потом семь-(три)-я воссоединились, и их, т.ск., жизнь протекала, струилась. Стирала свое серое белье Валька тщательно. Тщательно и развешивала – при входе на кухню поперек тянувшихся вдоль столов к единственному окну рядов индивидуальных веревок, на свою личную. Люди, входившие на кухню, попадали в мокрые в подтеках простыни, чертыхались и требовали убрать веревки, белье да и саму Вальку вместе с дочкой и внучкой. Пусть репку тягают. Однажды и убрали. После многократных возлияний и приема нескольких постоянных посетителей, Валька при открытых дверях валялась на полу в своем же доме в своем же голом теле. Не понравилось. Вызвали милицию, 03, забрали в Бутырки на 15 суток. Вернулась вся из себя простуженная, кашляющая. Злая, но молчаливая. Протекала, струилась… Шла по коридору поддатая, шаркала толстую ногу об ногу толстую. Вжик-вжик. Шла в конец коридора к сортиру, а путь ее отмечал мочевой ручеек и дурно парящие вешки. Как Мальчик-с-пальчик со своими камешками.
Чтоб он не скатился, она придерживала его шершавыми руками. На такую посуду такой
обрезанный маленький кусочек жеваного мяса. Проспринцевав, он все таки сваливался на пол, не спеша деловито одевал маленькое тельце и ушаркивал в свое далекое-далеко с тем, чтобы снова явиться на проце-дуру,
каждый раз честно оставляя на тумбочке новенькую тридцаточку. Потом, когда немного подросла ее дочь Райка, он оставлял уже две бумажки. Райка быстро вошла в ритм, перестала ходить
в школу и успешно (даже с удовольствием) делила мамины занятия. Котлеты, правда, жарила только Валька. Из школы пару раз заходили, справлялись о причинах отсутствия на занятиях. Потом, получив из венерического
диспансера справку о том, что мать-бабка Валя, дочь Райка и дочь-внучка Ольга инфицированы люэсом-сифилисом, оставили их в покое. Лечились они все трое в больнице с решетками на окнах, а младшенькая
– в детской палате. Старших выпустили быстрее, потом семь-(три)-я воссоединились, и их, т.ск., жизнь протекала, струилась. Стирала свое серое белье Валька тщательно. Тщательно и развешивала – при входе на кухню поперек тянувшихся вдоль столов к единственному окну рядов индивидуальных веревок, на свою личную. Люди, входившие на кухню, попадали в мокрые в подтеках простыни, чертыхались и требовали убрать веревки, белье да и саму Вальку вместе с дочкой и внучкой. Пусть репку тягают. Однажды и убрали. После многократных возлияний и приема нескольких постоянных посетителей, Валька при открытых дверях валялась на полу в своем же доме в своем же голом теле. Не понравилось. Вызвали милицию, 03, забрали в Бутырки на 15 суток. Вернулась вся из себя простуженная, кашляющая. Злая, но молчаливая. Протекала, струилась… Шла по коридору поддатая, шаркала толстую ногу об ногу толстую. Вжик-вжик. Шла в конец коридора к сортиру, а путь ее отмечал мочевой ручеек и дурно парящие вешки. Как Мальчик-с-пальчик со своими камешками.Квартира № 78
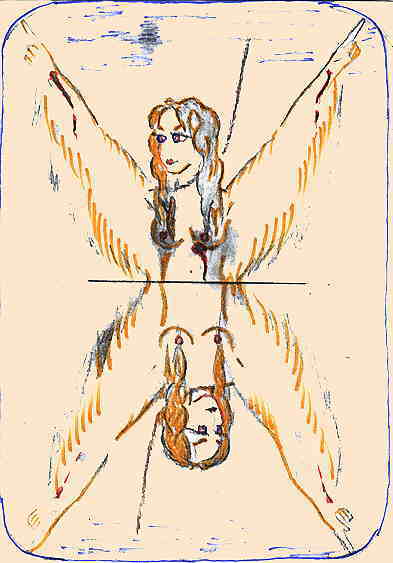
Леля с Убийцей съехали, им дали где-то в новом районе квартиру. Квартира новая, просторная. Мебели мало, но все как надо. Зажили, душа от души. Только вот стала Леля получать подкидные записки, мол, никому ты, суицидка, не нужна, вешалась-стрелялась, резалась по венам, осталось только с моста вниз головушкой буйной, все равно тебя муж, Гера-Убийца, не любит. Весна была, "цвели дрова и пели лошади, как птицы". Леля мыла раму. Синь неба и бель облаков. Пела песенку, насвистывала мелодийку. Убийца подошел, толкнул ее с подоконника, пошел в прихожую, взял ведро. Вышел на лестницу и долго возился у мусоропровода – пока народ снизу не добрался до их шестого или девятого этажа. Ввалились, разгуделись, раззвонились. То ли 01, то ли 02, или 03. И милиция здесь, и документик проверили и так вежливенько возвернули. Все-таки Гера – дознаватель-досматриватель. А когда Леля летела, время остановилось, и к ней приблизились двое. Один – Сережа, с буйной златоволосой головой, другой Михаил Аф, тоже светлошевелюрный, только постарше, подхватили они ее душеньку и улетели куда-то к Маргарите Николаевне. Приезжала из дальних казахских степей постаревшая, но такая же худая и длинная Мила. Поплакалась у Зубровых, порассказала о том, как содрали с мостовой перемешанное с халатиком Лелино тельце, и в закрытом домике зарыли в землю, поглубже от людских злодеяний.
Здесь же, в комнате 78, поселилась тетка Кравцова,вместе с племянником. Опять Саша, опять потный непродуваемый нос листом, естественно талант, пока не замеченный широкой общественностью. Каких только чудаков вагина не накидала! Артист саратовско-сормовского и др. театров. На двух затертых листках из школьной тетрадки предъявлял список ролей, сыгранных подателем сего, заверенных, впрочем, круглой печатью и факсимильной закорючкой Юдовского. Пед-арт разыгрывал в комнате с приглашенными юношами шекспировские страсти.  После мальчики со скромно опущенными глазами тихо удалялись восвояси. Так было до тех пор, пока не проявилась маменька одного из них. После визга и слез они растаяли где-то в городе. А пед-арт Саша, напуганный и трясущийся, стал искать приключений на свой тыл в редакциях, творя по наводкам ангажированные пасквили. Потом и он растворился, а может просто уехал на родину. Так что в коридоре проживали иногда и интеллигенты – прослойка между крестьянами и рабочими. Тыл к крестьянам и в тыл к рабочим. Тетка его какое-то время шаркалась по коридору, пугая обитателей крупноячеистым шнобелем, разделявшим пару вспученных пузырей глаз, лечилась сверхновым методом с помощью мочи. Вот только неизвестно, своей ли? Сгинула и она, тетка значит.
После мальчики со скромно опущенными глазами тихо удалялись восвояси. Так было до тех пор, пока не проявилась маменька одного из них. После визга и слез они растаяли где-то в городе. А пед-арт Саша, напуганный и трясущийся, стал искать приключений на свой тыл в редакциях, творя по наводкам ангажированные пасквили. Потом и он растворился, а может просто уехал на родину. Так что в коридоре проживали иногда и интеллигенты – прослойка между крестьянами и рабочими. Тыл к крестьянам и в тыл к рабочим. Тетка его какое-то время шаркалась по коридору, пугая обитателей крупноячеистым шнобелем, разделявшим пару вспученных пузырей глаз, лечилась сверхновым методом с помощью мочи. Вот только неизвестно, своей ли? Сгинула и она, тетка значит.
 После мальчики со скромно опущенными глазами тихо удалялись восвояси. Так было до тех пор, пока не проявилась маменька одного из них. После визга и слез они растаяли где-то в городе. А пед-арт Саша, напуганный и трясущийся, стал искать приключений на свой тыл в редакциях, творя по наводкам ангажированные пасквили. Потом и он растворился, а может просто уехал на родину. Так что в коридоре проживали иногда и интеллигенты – прослойка между крестьянами и рабочими. Тыл к крестьянам и в тыл к рабочим. Тетка его какое-то время шаркалась по коридору, пугая обитателей крупноячеистым шнобелем, разделявшим пару вспученных пузырей глаз, лечилась сверхновым методом с помощью мочи. Вот только неизвестно, своей ли? Сгинула и она, тетка значит.
После мальчики со скромно опущенными глазами тихо удалялись восвояси. Так было до тех пор, пока не проявилась маменька одного из них. После визга и слез они растаяли где-то в городе. А пед-арт Саша, напуганный и трясущийся, стал искать приключений на свой тыл в редакциях, творя по наводкам ангажированные пасквили. Потом и он растворился, а может просто уехал на родину. Так что в коридоре проживали иногда и интеллигенты – прослойка между крестьянами и рабочими. Тыл к крестьянам и в тыл к рабочим. Тетка его какое-то время шаркалась по коридору, пугая обитателей крупноячеистым шнобелем, разделявшим пару вспученных пузырей глаз, лечилась сверхновым методом с помощью мочи. Вот только неизвестно, своей ли? Сгинула и она, тетка значит.Пустых комнат природа городов не терпит, появился стройный быстрый Юра Буга. Он на оператора телевида учился, а в свободное время пил, созывал компашки. С ними тоже пил и вел нескончаемые разборки с часто меняющимися со-стаканниками. "Не топчите мне душу, снимите галоши перед входом в мою частную жизнь... он ее разлюбил, он меня поимел... хочешь в морду – проси вежливо... тебя еще не расстреляли?.." И прочее, и прочее. Постепенно Буга опускался, нищал, занимал у соседей, то пару картофелин, то луковку, так как денег в долг ему уже никто не давал. С полгода – год у него была жена, и он похаживал в чистых рубашках и уж в меру пьяный. Жена, сутулая, подслеповатая в окулярах Фанера – библиотекарша. Пыталась что-то готовить в маленькой кастрюлечке, но закусывали по-прежнему картошкой, лучком. Фанере не нравилось, что соседка В-Валя в ее отсутствие не только с-с-стаканилась но и постелилась с ее мужем, не отказывая ему и в изззз… вращениях. С-сс Ю-Ю-рой. Раз внезапно вернулась домой, а дверь изнутри закрыта. Заглянула в щелку и обомлела. "Она моему мужжжу минет ддделает". Он в окно, благо невысоко – бельэтаж. Ну, а уж Вальке пришлось выходить через дверь, мимо Фанеры. Заика она была, Фанера. Частенько Буга ходил усеянный синяками, иногда в гипсе – то рука, то шея. Пришла Фанерина маманя, шепотом повозмущалась образом жизни муженька дочуры своей, стоявшей рядом и, под-д-дакивающейкивая кивками увенчанной очками головы. Появлялись в их комнате довольно-таки пестрые прохондяжи (не называть же их персонажами). Так, частенько участвовала в сходках-попойках удивительная женщина Жепа. Высокая, прямоходящая, почти гордо носила она свой обюстенный корпус, плотно посаженный на гиннесовскую корму. Печки ею ломать можно, кормой. Бедреннокостная арматура обильно оснащена упругой массой. Голосом хозяйка уникального сооружения обладала хриплым и грудным. Пьяной ее не видели, да и трудно представить, чтоб при их возможностях они могли споить эдакую орясину. С недельку проваландалась Жепа на правах сожительницы, частенько вызванивалась с коридорного телефона Петру Семенычу. Он все интересовался насчет спринц-шприцования кормы. А на продолжавшихся компанейских разборках, при возлежаниях на двух напольных матрасах – как в Греции симпозиумы – можно было узнать, что "...на чужую кровать – рот не разевать... Дружба – дружбой, а ножки врозь... Что посмеешь, то и пожмешь... Куй железный, пока горячий… тише е...шь – дольше будешь..." Кушали гости с табуреточки, стоящей меж двух стеганых, непомерно грязных матрасов. Стаканы ставили на узкую дорожку пола меж лежаками. Еду брали пальцами с толстой серой оберточной бумаги, постеленной на табуреточке. Здесь же и отпадали, так, чуть-чуть пердохнуть. "С ранья ить замокаем". Потом и Жепа отпала, вслед за Фанерой. Компанейские сходки еще какое-то время продолжались. Гости обнаглели и заходили в туалет, к коридорному телефону, не считаясь с естественными потребностями обитателей индивидуальных комнат. Пока не взялся за них Митяй: кого-то вышвырнул в парадное, кого-то нехорошими словами пронял. А вот одного метрового циркача, навершителя аренных пирамид, прямо от коридорного телефона шварканул со ступеньки, и аж сам испугался. Циркач, правда, не пострадал, профессионально скульбитил, легко встал на ножки и сгинул в изгибе коридора. Компашка распадалась, кончались заработки, силы и терпение окружающих. 02! Последний раз Бугу видели в кабинете директора гастронома, за Каширским шоссе. Директор, грозный Арутюнович, грузчику из подвала-погреба прорычал в обвислые серые уши, хрястнув в беззубый Бугин рот: "Чего, вонь грязнучая, на ковры стал?! ПШЕЛ!" Так и пшел…
Кухня-2
Итак, первый слева, стандартный стол – двухдверная тумбочка. Внутри на двух полках все что надо для кухни: ложки-поварешки, кастрюльки-сковородки, чашки-кружки. Сверху, на столе, то что не уместилось и что не представляло ценности в глазах окружающих. Первой по памяти здесь хозяйствовала Полина, жена Макарыча – Крех по-местному. Сидоренки. Тогда еще основным орудием кухонного производства, для изведения продуктов, была керосинка. Пузатое латунное основание служило пьедесталом толстенькой стоeчки, внутри которой горели невысоким пламенем две-три полоски черных обугленных фитилей. Хочешь большего огня – поверни зубчатые колесики и в о з г о р и т с я пламя. И копоть, копоть въелась в стены, в потолок и витала в воздухе. Позже появились примуса, шумные и многопламенные. Хочешь дать огня – подкачай насосик. Только вовремя долей керосинцу, да при разжигании подпали денатуру в блюдечке под горелкой; прочищать оную полагалось регулярно – иголочкой проширивать. Позже появились керогазы, шумящие по-страшному, но более огненные и взрывающиеся. Обошлось без 01, но разговаривать, обсуждать последние события не было никакой возможности. Приходилось криком кричать, чтоб не увязнуть в скуке и безглоссии. Ну уж потом, уж совсем потом, после войны, установили три четырехконфорные газовых плиты. Одну в левом углу: для Ахматовых, Пыновых и Зубровых, в соответствии с расположенными рядом столами и душевным расположением, пусть и относительным, пользователей. Здесь же позже обосновалась Лиля Евина.Слева от первой плиты.
Итак, Полина. Основное ее занятие на кухне – это жарить в масле ароматные и обрумяненные пончики с вареньем. Жарила она и что-то другое, но всегда помалу и аккуратненько. Макарыч ее, по-другому – Крех-Маклер, питался где-то в городе, а сын – субтильный, худой недоросток ел мало и с большой неохотой. Приходилось Полине сидеть над ним и уговаривать, и грозить, и маленькой ладошкой внушать. Плакал он канючно и противно. Еня многое делал мало и с большой неохотой. Любил петь песни, но только советские. Любил Родину, "Совецкую".  Полина мало говорила и так, как будто во рту у нее то ли леденец, то ли прыщик на языке. Дома в комнате, она обычно сидела на краюшке дивана и бесконечно вязала что-то шерстяноцветное. Крех являлся поздно, сопел всегда мокрым носом, а по недогляду иногда и с мокрой же верхней губой. Впрочем, между губ у него всегда присутствовал упругий слюнный мостик, не мешавшей ему ни есть, ни пить, ни беседовать. Приятственный собеседник. Ссытый и поддатый. Но это уже комната
Полина мало говорила и так, как будто во рту у нее то ли леденец, то ли прыщик на языке. Дома в комнате, она обычно сидела на краюшке дивана и бесконечно вязала что-то шерстяноцветное. Крех являлся поздно, сопел всегда мокрым носом, а по недогляду иногда и с мокрой же верхней губой. Впрочем, между губ у него всегда присутствовал упругий слюнный мостик, не мешавшей ему ни есть, ни пить, ни беседовать. Приятственный собеседник. Ссытый и поддатый. Но это уже комната
 Полина мало говорила и так, как будто во рту у нее то ли леденец, то ли прыщик на языке. Дома в комнате, она обычно сидела на краюшке дивана и бесконечно вязала что-то шерстяноцветное. Крех являлся поздно, сопел всегда мокрым носом, а по недогляду иногда и с мокрой же верхней губой. Впрочем, между губ у него всегда присутствовал упругий слюнный мостик, не мешавшей ему ни есть, ни пить, ни беседовать. Приятственный собеседник. Ссытый и поддатый. Но это уже комната
Полина мало говорила и так, как будто во рту у нее то ли леденец, то ли прыщик на языке. Дома в комнате, она обычно сидела на краюшке дивана и бесконечно вязала что-то шерстяноцветное. Крех являлся поздно, сопел всегда мокрым носом, а по недогляду иногда и с мокрой же верхней губой. Впрочем, между губ у него всегда присутствовал упругий слюнный мостик, не мешавшей ему ни есть, ни пить, ни беседовать. Приятственный собеседник. Ссытый и поддатый. Но это уже комната№ 80-А
Ее не было в нашем коридоре. Она из соседнего, за стенкой. Там Сидоренкам приходилось ходить через проходную, что неудобно. Вот он, Крех значит, и выбил разрешение на прорубку двери в наш ералаш. Пришлось к проему в стене изнутри приделать две ступеньки. Весь Дом разноуровневый, полы и потолки как-то не сходились, да и окна разнились по расстояниям от пола. Ну да крехино семейство было довольно, пока Макарыч где-то строил и оборудовал пошивочные ателье, Полина, если не вязала, устраивалась у окна и переговаривалась с сыном, сидевшем на подоконнике другого. Комнату они обставили, ну там ковры-скатерки и прочие милые причиндалы, но в меру, без того, чтобы не привлекать излишнего и небезопасного любопытства. Маклер Макарыч не был националистом, но хотел быть исключительным и потому покупал редкие дорогие украинские книжки. Любил Шевченко, в частности "Кобзаря". Исключительным себя чувствовал и Еня, так, у него всегда водились карманные денежки, мелочь разная. А то и "хрусты", рубли в просторечии. Он их невзначай демонстрировал мальчишкам, а иногда устраивал состязания, кто быстрее найдет заброшенную им монетку. На нее всегда можно купить леденцов у дяди Коли, хромого на протезе моссельпромщика. Хромой мог дать пару леденцов и так, задаром, за два шелобана по лбу. Щелкал он пальцами пребольно, но терпеть можно, коль хочешь сладких слюней. Когда Еня подрос, и уж Митя, вроде как, друг его, уж учился в институте, решили на сидоренкином семейном совете и Еню туда же определить. Для этого, зазвав Митю в комнату, напялили, натянули на него енину пальтушечку, хрустнувшую где-то в области спины и с напутствием не мерзнуть стали дожидаться результатов оговоренной благодарности, посодействовать с определением в студенты, ведь Еничка техникум почти закончил. Все, к обоюдному согласию, разрешилось благополучно. Позже они съехали, Крех-то на то и Маклер, где-то квартирку надыбал, а потом и дачку построил. Коридор не терпит пустоты. Появились Шкаликовы-Петушковы.
Шкаликов Миша, дитя Страстных бульваров и подворий, дворного происхождения, значит... Отец бил его с малолетства орудием своего труда – сапожной колодкой, и по голове, и еще, и... Подрос, пророс. Женился на Тоньке Петушковой, уроженке соседнего двора и дочери бандерши. Тонька накидала ему, Мише, по молодости, четверых детей. И быстро как-то. За три с половиной года, как трудовую пятилетку. Болели дети во младенчестве в основном рахитом. По несоразмерно большим головам, низким лбам и впалым глазам это и теперь видно. Впрочем, коклюшем, и желтухой, скарлатиной с бронхитом тоже болели. Ну, а уж понос-то их бил еженедельно. Всего и не упомнишь. Да и Тонька по женским хворала. Пришлось врачам-докторам все внутриженское вырезать-выбросить. Мишка не в обиде: что ему надо, все на месте осталося. Вот в подвале проживать стало плоховато. И тесно и сыро, прям, как у Тоньки по молодости. Собрал Мишка все справки, все свидетельства, но переселения в светлое настоящее никак не получалось. Бюрократия, мать иху. Тогда взял он всех четверых, Тонька замыкающей, и мимо милиции в дверях пред мутные очи начальства. Естественно, крик, визг. Дети, как по команде: "Жрать, пить, какить и писить хотим, хотим и еще раз хотим". Так и очутились они в двухоконной с двумя ступеньками перед дверью комнате. А напротив, через коридор, другая –
Сортир (не для эстетов)
типа уборная. Оснащенная еще во времена царские. Ржавая, но мощная водоводная труба, на ней еще Коншин висел; толчок высокий и прочно притороченной к цементному полу, обычно и обильно залитому мочой. Сверху угрожающе нависал сливной бачок, тоже ржавый ...что приводило к образованию очереди в коридоре, либо об них вытирали пальцы. Левая стена, если смотреть, сидя на толчке, имела тщательно прорезанную зекалку, как раз напротив такого же седуна, но из застенного коридора. Все эти художества появились и множились вместе с детьми Шкаликовых-Петушковых. В сортире не пофилософствуешь, в двери восьмигранная бронзовая рукоять с двумя, дребезжащими при дерганьи, кольцами. Сиди быстрее, общественное место понадобилось другому, или другим, переминающимся с ноги на ногу в непосредственной близи вдоль стены от кухни до двери вожделенного городского удобства. Особо нетерпеливым можно выйти из парадного через переулок к двери в подвал с кабинками, гривенник все удовольствие и можно философствовать в обществе таких же любомудрых. А энурезники и простодушные, сбежав с восьми ступенек, тут же за левой или правой полудверью, оправдывали библейское провозглашение:"о, вы, мочащиеся" за двери. Впрочем был и еще выход для человеческой деятельности, простые подкраватные горшки. К сожалению, их тоже следовало относить в конец коридора, но зато можно даже оставить без присмотра, пока очко не освободиться. Вот только многие ворчали, а иногда и ругались, когда чистюли плескались под одним из двух кранов, приводя в надлежащий вид свои индивидуальные средства спасения. Не нравилось, видете ли это умывающимся или наполняющими чайники. Стены, когда-то крашеные, обширно декорированы буграми запекшегося продукта людской сепараторской деятельности, с хорошо обозначенными дактилоскопическими отпечатками. Пробовали газеты для забывчивых закладывать за трубу, но их использовали не по назначению. Либо читали, что приводило к образованию очереди в коридоре, либо вытирали об них пальцы. Левая стена, если смотреть, сидя на толчке, имела тщательно прорезанную "зекалку", как раз напротив такого же седуна, но из застенного коридора. Все эти художества появились и множились вместе с детьми Шкаликовых-Петушковых. В сортире не пофилософствуешь, в двери восьмигранная бронзовая рукоять с двумя, дребезжащими при дерганьи, кольцами. Сиди быстрее, общественное место понадобилось другому, или другим, переминающимся с ноги на ногу в непосредственной близи вдоль стены от кухни до двери вожделенного городского удобства. Особо нетерпеливым можно выйти из парадного через переулок – к двери в подвал с кабинками, гривенник все удовольствие, и можно философствовать в обществе таких же любомудрых. А энурезники и простодушные, сбежав с восьми ступенек, тут же за левой или правой полудверью, воплощали библейский призыв: "O, вы, мочащиеся на стену!.." Впрочем, был и еще выход для человеческой деятельности – простые подкроватные горшки. К сожалению, их тоже следовало относить в конец коридора, но зато можно даже оставить без присмотра, пока очко не освободится. Вот только многие ворчали, а иногда и ругались, когда чистюли плескались под одним из двух кранов, приводя в надлежащий вид свои индивидуальные средства спасения. Не нравилось, видите ли, это умывающимся или наполняющими чайники...
Так вот, Шкаликовы младшие. Женька, старший из младших. Худой и длинный, черноволосый и черноглазый, он был главным заводилой шалостей и проказ, имеющих целью приобретение нужных в хозяйстве мелочей. Он первый бросил школу, а за ним и все остальные. Все под патронатом милиции, или по ее настояниям. Устроился Женька разносчиком телеграмм, и дом стал наполняться разными приятными мелочами. Ну там, ложки-поварешки, кружки-чашки, газеты-журналы, даже появился большой и мощный радиоприемник. Работал он в основном на одной волне ЮЭсЭй. Битлы, антисоветчина. Транслировали Шкалики все это из двух раскрашенных в яркокрасный пугающий колер динамиков на весь Столешников с высоты своего бельэтажа. Милиция в этом конкретном случае почему-то бездействовала. Шкалики не пренебрегали и кухонными возможностями, ну там, чужим мылом, зубной пастой со щеткой. Приходилось держать эти вещи дома, а то хозяева стремились вернуть их на место. Надолго ли? Женька имел преимущественное право доступа к девичьим отличиям Соньки, к ее архитектурным излишествам. Глава семьи со своей маленькой головкой не стеснялся в своих поисках остатков женственности у беспрекословной Тоньки.  Ну, а дети-то, восприимчивый народец, все и воспроизводили по очереди от старшего к младшеньким. Чего еще можно ждать от влияния комнаты, заваленной шестью матрасами, кое-как перемешанными с
остатками белья и цыганских лоскутовых одеял. Иногда из-за усталости и надоедливости приставаний Сонька возражала и визжала, но после грозных окликов Мишки, продолжала угождать, иногда многократным, потребностям
братьев. Сонька была совершенно бесцветна и малоречива, рано обабилась, т.к. с детства немного заикалась, да и слов-то маловато знала. Ну там повизжать-поплакать – это пожалуйста. Следующий, средний брат
Лешка, полноватый, бледноватый: "...а что? это не я... не знаю... я больше не буду". Ну и меньшой Коська. Меньший по возрасту и по росту. Набрался всего понемногу от старших, а откуда помногу взять? Будучи еще малыми малолетками, они имели обыкновение высыпать из своей двери в коридор, с криком и визгом колесовали на кривых рахитичных ногах по коридору а потом, вопя и хрюкая, с восторгом вкатывались восвояси. Веселенькая ватага.
Ну, а дети-то, восприимчивый народец, все и воспроизводили по очереди от старшего к младшеньким. Чего еще можно ждать от влияния комнаты, заваленной шестью матрасами, кое-как перемешанными с
остатками белья и цыганских лоскутовых одеял. Иногда из-за усталости и надоедливости приставаний Сонька возражала и визжала, но после грозных окликов Мишки, продолжала угождать, иногда многократным, потребностям
братьев. Сонька была совершенно бесцветна и малоречива, рано обабилась, т.к. с детства немного заикалась, да и слов-то маловато знала. Ну там повизжать-поплакать – это пожалуйста. Следующий, средний брат
Лешка, полноватый, бледноватый: "...а что? это не я... не знаю... я больше не буду". Ну и меньшой Коська. Меньший по возрасту и по росту. Набрался всего понемногу от старших, а откуда помногу взять? Будучи еще малыми малолетками, они имели обыкновение высыпать из своей двери в коридор, с криком и визгом колесовали на кривых рахитичных ногах по коридору а потом, вопя и хрюкая, с восторгом вкатывались восвояси. Веселенькая ватага.
 Ну, а дети-то, восприимчивый народец, все и воспроизводили по очереди от старшего к младшеньким. Чего еще можно ждать от влияния комнаты, заваленной шестью матрасами, кое-как перемешанными с
остатками белья и цыганских лоскутовых одеял. Иногда из-за усталости и надоедливости приставаний Сонька возражала и визжала, но после грозных окликов Мишки, продолжала угождать, иногда многократным, потребностям
братьев. Сонька была совершенно бесцветна и малоречива, рано обабилась, т.к. с детства немного заикалась, да и слов-то маловато знала. Ну там повизжать-поплакать – это пожалуйста. Следующий, средний брат
Лешка, полноватый, бледноватый: "...а что? это не я... не знаю... я больше не буду". Ну и меньшой Коська. Меньший по возрасту и по росту. Набрался всего понемногу от старших, а откуда помногу взять? Будучи еще малыми малолетками, они имели обыкновение высыпать из своей двери в коридор, с криком и визгом колесовали на кривых рахитичных ногах по коридору а потом, вопя и хрюкая, с восторгом вкатывались восвояси. Веселенькая ватага.
Ну, а дети-то, восприимчивый народец, все и воспроизводили по очереди от старшего к младшеньким. Чего еще можно ждать от влияния комнаты, заваленной шестью матрасами, кое-как перемешанными с
остатками белья и цыганских лоскутовых одеял. Иногда из-за усталости и надоедливости приставаний Сонька возражала и визжала, но после грозных окликов Мишки, продолжала угождать, иногда многократным, потребностям
братьев. Сонька была совершенно бесцветна и малоречива, рано обабилась, т.к. с детства немного заикалась, да и слов-то маловато знала. Ну там повизжать-поплакать – это пожалуйста. Следующий, средний брат
Лешка, полноватый, бледноватый: "...а что? это не я... не знаю... я больше не буду". Ну и меньшой Коська. Меньший по возрасту и по росту. Набрался всего понемногу от старших, а откуда помногу взять? Будучи еще малыми малолетками, они имели обыкновение высыпать из своей двери в коридор, с криком и визгом колесовали на кривых рахитичных ногах по коридору а потом, вопя и хрюкая, с восторгом вкатывались восвояси. Веселенькая ватага.Впереди стенка, а в ней заколоченная дверь. Если дойти до конца их коридора, то упрешься в стенку, а в ней – дверь… Так можно обойти весь Дом, или почти весь. За дверью Другой Коридор, со своими Мишками-Гришками, так что, пусть сами разбираются. А это – наш конец коридора. Зона возврата. Темно в глубинах памяти. Подплывают тени, тени минувшего, давно уж уснувшего, снова как призраки плывут предо мной. Одни, густые, подплывают очень близко, другие, размытые, проскальзывают в отдалении. Пронзенные стрелой вечности растворяются в тоннелях памяти. В коридорах. Время возвращаться. Ли?
Комната № 80-А, (еше раз)
...Мишечка перед войной работал на заводе, вероятно, слесарем. Однажды ему показалось, что мастер маловато оценил ему наряд. Миша к мастеру – тот его к матери. Миша к начальнику цеха – тот его туда же. К директору пошел Мишечка. "Куда на ковры прешь, нечисть? Пшел!" Ну и "пшел": взял половинку кирпича и, дождавшись не столь высокого, сколь толстого начальства, огрел его по голове. Суд да тюрьма. А тут война. Одним из первых добровольцем вышел на фронт, вскорости попал в плен. Во время марша с погрузки-разгрузки сердобольная прохожая кинула горбушечку. Миша нагнулся поднять и получил умопомрачающий удар кованым сапогом в самый что ни на есть кобчик. Многолетия спустя, он при воспоминании об этом почти терял сознание. Ну а тогда, затаив в душе некоторое хамство, дожидался удобного случая. И дождался. Во время раздачи баланды, получив почти полный котелок горячей и мутной жижи, Мишаня, опрокинув котелок на голову обидчику, натянул его тому до упора. Уши полицая валялись на полу, криком бедолага кричал, залитый по щекам кровью, оскопленный, а Миша, битый и поверженный, никак не мог расцепить в судорге заклинившие руки. Ничего, отлежался... А вот жестянщику пришлось срезать c головы полицая алюминиевый котелок ножницами, что принесло обезушенному дополнительные мучения. В следующий раз Мишу били за картошку, принесенную в подвязанных внизу штанах. Снял он их по требованию, высыпал содержимое, а вот одеться не дали, так по голой заднице и всыпали шомполами. И откуда только они их надыбали?.. В друголя понадобился им шофер, накормили, как обещали, и подвели к машине. Миша под нее залез и не вылезал, не слыша угроз. Потом машина съехала, взяли его под микитки, в этот раз не очень били, больше ржали. Вряд ли бог их простит. Сильно надоело Мише такая житуха: во время бомбежки на ж/д станции скакнул он в лесок, еще день и ночь проскакал – и к своим. А там опять пошло-поехало. СМЕРШ, лагеря, пока разобрались, что это свой брат, свой псих и ненормальный. Вот и дома, вот и в семье. Мастырил подметки, набойки, матерился. Да и Тонька в больничке поломойкой чего-то зарабатывала; быт наладился. Только вот по вечерам, когда народ утишится, и все, вроде как, спать собрались, осаждали Мишину буйну голову сонмы чужих мыслей.  Эдакий сумбур, винегрет с салатом. Орут, чего-то требуют, шевелятся и раздирают крышку черепа. Гонят, незнамо куда, погоняют. Нету от них спасу. Выбежит в коридор, мечется от стены к стене, от сортира на кухню, в дом и из дома. Возопит к потолку, к богу, к соседям. Не слышит никто. Только замки да крючки по щеколдам стучат. Попрятались гады, притихли, прильнув ушами к щелям. У, как бандит бесится! У, как его бесы корчат! Стал частенько по церквам ходить, крестик на тонкую шейку гайтаном подвязал. Вроде как полегчало, да не вполне. А тут раз днем вышел из комнаты на кухню, там, как входишь, Лелькин стол стоит. Она, как королева, в резиновых перчатках картошку своему мужу чистит. Весело-радостную мелодийку мурлычет. "Стерва", – Миша говорит, она ни гу-гу. Дошел до конца кухни, подвернул пламя газа, (а свое нутряное еще больше вспыхнуло), ну и врезал ей по тонкой и длинной шее. Лелька в голос кричит: "Гера!" Тот черкопыткой несется. Топ да топ. Мишка санки детские со стены сдергивает – и всего разок по башке его, по кумполу. Убийца всей геркой на пол и рухнул. Выбегает тут Вертухай – и ему санями, тот наземь. Пасынок Сопливый откуда-то взялся, да со спины с Мишаниной согбенной хвать его обеими руками, да не удержал, пьянь рыхлая. Вывернулся как-то Мишка, да и зубами выхватил мяса клок. Правда, выплюнул тут же. Их много, он один. Подался в дом, схватил сапожный – криво отточенное ножовочное полотно и пригласил вежливо: "заходите, гады, по одному". Не заходят чего-то, толпятся, потом расступились, пропустили двух ментов. Спустили Мишу этажом ниже, там тогда 50-десятое отделение располагалось. Мишке особо располагаться не дали: искать пятый угол в квадратной камере дело накладное. Наклали полные бока. А потом в Бутырку перевезли, в камеру многоместную. "Сижу я целый день, скучая, в окно тюремное гляжу, а слезы капают, братишка, потихонечку по исхудалому лицу". Петь в тюрьме запрещено, а хочется. Садятся в кружок, запевала спиной к двери, чтобы не засекли. И поехали: "И вот пошел я на работу. С собой взял пару сухарей". А круговые сопровождают: "Тумба-тумба. Тумба-тумба". Глазок в двери, васиздас, открывается, входят двое, Мишку под белы рученьки на лестницу, а впереди третий, вот он-то забойщиком будет. Руки заламывают назад и стремительно сводят с лестницы, а на площадке тормозит кулаком в челюсть забойщик-паразит. Но это все байки, хотя челюсть потом долго ноет. Вызывали к следователю, все честь по чести. Только вот Мишка все дело испортил, схватил стеклянную пепельницу и хрясь себе по голове. Залился кровию, со лба безумного стекающу. Отпустили домой бедолагу, к детям малым и голодным, как просила слезно Мать из 79-ой. Увидал ее в переулке Мишаня, с детьми из церкви возвращаясь, и кинулся на брусчатку мостовой, понудив и детей всех четверых рядом в луже на колени встать. "Уж прости ты нас, матушка!" – cлезьми обливаясь, просили. Сама вся в слезах, еле сбежала сердобольная. И все из-за того, что ходил по коридору следователь, опрашивал народ и удивлялся, как это такой малый шкет кучу здоровяков одолел, сомнительно это как-то, да и детишек его кривоногих жалко. Выпустили Мишу бегать по коридору по вечерам, да вопить от безысходности чужих мыслей. В общении с нормальными соседями его лицо выражало внимание, сосредоточенность и восприимчивость. Даже неспокойные и быстрые глаза лучили ум и благожелательность. Бывало, разойдутся гости, а хозяин Митя позовет к еще не убранному столу. Посидят, потолкуют, выпьют, да не по разу, соберут со стола всего понемножку и
детям на тарелках отнесут. Ну, а если не было почему-либо Мишани, просто складывал ему на стол тарелки с закусем. Шкалята все подберут, посуду помоют, а тарелки уж тоже молча на стол дарителям поставят. Так бы все
замечательно и шло, да вот случилось беспричинное – повесился, бедолага. Тонька, как обычно, стирала, упершись корытом в стенной изгиб, на кухне, на газовой конфорке в баке мирно плескалось через край мыльно-водяное варево, а в комнате, в петле бельевой веревки, притороченной к надоконному костылю, корчился, суча ногами, тщедушный маленький человечек. Слепездень-Тонька поводила носом вдоль тела, убедилась, что оно мужнино, и возопила. Хрипя и отплевываясь, прибежал с кухни АртПед Саша, теряя крупные капли пота с листоноса, кухонным ножом перерезал с двух попыток веревку и опрокинулся на пол, стряхивая невесомое тельце
неудавшегося висельника. Тумба-тумба. Отлежался Мишаня. Какое-то время нахаживал вместе с детьми в церковь, но из-за преследовавшего его постоянно запаха черемухи, перестал ходить через улицу по переулку к высокой храмине на пригорке. Да и раздражали его часто проносящиеся милицейские машины, которые он атаковывал камнями, да и чем ни попадя. Дети весело принимали посильное участие, призываемые отцом. Тумба-тумба.
Запах, запах гнал его по улицам, переулкам, из дома на кухню, дальше, быстрее. "Черемуха!" И вправду, сам он на себе носил жуткий, отвратительный запах чего-то противоприродного, может это от ханки, которой его пользовал знакомый ханыга. Тумба. Через полгода он снова повесился, на том же самом крюке, Тонька также стирала, также вошла в дом, но вопить не стала. Вернулась к корыту, отжала белье, еще раз глянула на уже не дрыгающего вонючего муженька и уж тогда возопила: "Миша повесился!" 03! Пульс уже не прощупывался. Тумба!.. Потом Тонька продолжала стирать, дети шнырить. Из двери 80-ой, вылезши из под диванов, к Шкаликовым рваными клубками покатились черные, косматые бесовы тени, визжа и скрежеща, поволокли свою добычу по коридору, на сгибе которого наткнулись на мечеподобное пламя, лизнувшее их по шерсти. В коридоре резко запахло горелой шерстью.
Эдакий сумбур, винегрет с салатом. Орут, чего-то требуют, шевелятся и раздирают крышку черепа. Гонят, незнамо куда, погоняют. Нету от них спасу. Выбежит в коридор, мечется от стены к стене, от сортира на кухню, в дом и из дома. Возопит к потолку, к богу, к соседям. Не слышит никто. Только замки да крючки по щеколдам стучат. Попрятались гады, притихли, прильнув ушами к щелям. У, как бандит бесится! У, как его бесы корчат! Стал частенько по церквам ходить, крестик на тонкую шейку гайтаном подвязал. Вроде как полегчало, да не вполне. А тут раз днем вышел из комнаты на кухню, там, как входишь, Лелькин стол стоит. Она, как королева, в резиновых перчатках картошку своему мужу чистит. Весело-радостную мелодийку мурлычет. "Стерва", – Миша говорит, она ни гу-гу. Дошел до конца кухни, подвернул пламя газа, (а свое нутряное еще больше вспыхнуло), ну и врезал ей по тонкой и длинной шее. Лелька в голос кричит: "Гера!" Тот черкопыткой несется. Топ да топ. Мишка санки детские со стены сдергивает – и всего разок по башке его, по кумполу. Убийца всей геркой на пол и рухнул. Выбегает тут Вертухай – и ему санями, тот наземь. Пасынок Сопливый откуда-то взялся, да со спины с Мишаниной согбенной хвать его обеими руками, да не удержал, пьянь рыхлая. Вывернулся как-то Мишка, да и зубами выхватил мяса клок. Правда, выплюнул тут же. Их много, он один. Подался в дом, схватил сапожный – криво отточенное ножовочное полотно и пригласил вежливо: "заходите, гады, по одному". Не заходят чего-то, толпятся, потом расступились, пропустили двух ментов. Спустили Мишу этажом ниже, там тогда 50-десятое отделение располагалось. Мишке особо располагаться не дали: искать пятый угол в квадратной камере дело накладное. Наклали полные бока. А потом в Бутырку перевезли, в камеру многоместную. "Сижу я целый день, скучая, в окно тюремное гляжу, а слезы капают, братишка, потихонечку по исхудалому лицу". Петь в тюрьме запрещено, а хочется. Садятся в кружок, запевала спиной к двери, чтобы не засекли. И поехали: "И вот пошел я на работу. С собой взял пару сухарей". А круговые сопровождают: "Тумба-тумба. Тумба-тумба". Глазок в двери, васиздас, открывается, входят двое, Мишку под белы рученьки на лестницу, а впереди третий, вот он-то забойщиком будет. Руки заламывают назад и стремительно сводят с лестницы, а на площадке тормозит кулаком в челюсть забойщик-паразит. Но это все байки, хотя челюсть потом долго ноет. Вызывали к следователю, все честь по чести. Только вот Мишка все дело испортил, схватил стеклянную пепельницу и хрясь себе по голове. Залился кровию, со лба безумного стекающу. Отпустили домой бедолагу, к детям малым и голодным, как просила слезно Мать из 79-ой. Увидал ее в переулке Мишаня, с детьми из церкви возвращаясь, и кинулся на брусчатку мостовой, понудив и детей всех четверых рядом в луже на колени встать. "Уж прости ты нас, матушка!" – cлезьми обливаясь, просили. Сама вся в слезах, еле сбежала сердобольная. И все из-за того, что ходил по коридору следователь, опрашивал народ и удивлялся, как это такой малый шкет кучу здоровяков одолел, сомнительно это как-то, да и детишек его кривоногих жалко. Выпустили Мишу бегать по коридору по вечерам, да вопить от безысходности чужих мыслей. В общении с нормальными соседями его лицо выражало внимание, сосредоточенность и восприимчивость. Даже неспокойные и быстрые глаза лучили ум и благожелательность. Бывало, разойдутся гости, а хозяин Митя позовет к еще не убранному столу. Посидят, потолкуют, выпьют, да не по разу, соберут со стола всего понемножку и
детям на тарелках отнесут. Ну, а если не было почему-либо Мишани, просто складывал ему на стол тарелки с закусем. Шкалята все подберут, посуду помоют, а тарелки уж тоже молча на стол дарителям поставят. Так бы все
замечательно и шло, да вот случилось беспричинное – повесился, бедолага. Тонька, как обычно, стирала, упершись корытом в стенной изгиб, на кухне, на газовой конфорке в баке мирно плескалось через край мыльно-водяное варево, а в комнате, в петле бельевой веревки, притороченной к надоконному костылю, корчился, суча ногами, тщедушный маленький человечек. Слепездень-Тонька поводила носом вдоль тела, убедилась, что оно мужнино, и возопила. Хрипя и отплевываясь, прибежал с кухни АртПед Саша, теряя крупные капли пота с листоноса, кухонным ножом перерезал с двух попыток веревку и опрокинулся на пол, стряхивая невесомое тельце
неудавшегося висельника. Тумба-тумба. Отлежался Мишаня. Какое-то время нахаживал вместе с детьми в церковь, но из-за преследовавшего его постоянно запаха черемухи, перестал ходить через улицу по переулку к высокой храмине на пригорке. Да и раздражали его часто проносящиеся милицейские машины, которые он атаковывал камнями, да и чем ни попадя. Дети весело принимали посильное участие, призываемые отцом. Тумба-тумба.
Запах, запах гнал его по улицам, переулкам, из дома на кухню, дальше, быстрее. "Черемуха!" И вправду, сам он на себе носил жуткий, отвратительный запах чего-то противоприродного, может это от ханки, которой его пользовал знакомый ханыга. Тумба. Через полгода он снова повесился, на том же самом крюке, Тонька также стирала, также вошла в дом, но вопить не стала. Вернулась к корыту, отжала белье, еще раз глянула на уже не дрыгающего вонючего муженька и уж тогда возопила: "Миша повесился!" 03! Пульс уже не прощупывался. Тумба!.. Потом Тонька продолжала стирать, дети шнырить. Из двери 80-ой, вылезши из под диванов, к Шкаликовым рваными клубками покатились черные, косматые бесовы тени, визжа и скрежеща, поволокли свою добычу по коридору, на сгибе которого наткнулись на мечеподобное пламя, лизнувшее их по шерсти. В коридоре резко запахло горелой шерстью.
 Эдакий сумбур, винегрет с салатом. Орут, чего-то требуют, шевелятся и раздирают крышку черепа. Гонят, незнамо куда, погоняют. Нету от них спасу. Выбежит в коридор, мечется от стены к стене, от сортира на кухню, в дом и из дома. Возопит к потолку, к богу, к соседям. Не слышит никто. Только замки да крючки по щеколдам стучат. Попрятались гады, притихли, прильнув ушами к щелям. У, как бандит бесится! У, как его бесы корчат! Стал частенько по церквам ходить, крестик на тонкую шейку гайтаном подвязал. Вроде как полегчало, да не вполне. А тут раз днем вышел из комнаты на кухню, там, как входишь, Лелькин стол стоит. Она, как королева, в резиновых перчатках картошку своему мужу чистит. Весело-радостную мелодийку мурлычет. "Стерва", – Миша говорит, она ни гу-гу. Дошел до конца кухни, подвернул пламя газа, (а свое нутряное еще больше вспыхнуло), ну и врезал ей по тонкой и длинной шее. Лелька в голос кричит: "Гера!" Тот черкопыткой несется. Топ да топ. Мишка санки детские со стены сдергивает – и всего разок по башке его, по кумполу. Убийца всей геркой на пол и рухнул. Выбегает тут Вертухай – и ему санями, тот наземь. Пасынок Сопливый откуда-то взялся, да со спины с Мишаниной согбенной хвать его обеими руками, да не удержал, пьянь рыхлая. Вывернулся как-то Мишка, да и зубами выхватил мяса клок. Правда, выплюнул тут же. Их много, он один. Подался в дом, схватил сапожный – криво отточенное ножовочное полотно и пригласил вежливо: "заходите, гады, по одному". Не заходят чего-то, толпятся, потом расступились, пропустили двух ментов. Спустили Мишу этажом ниже, там тогда 50-десятое отделение располагалось. Мишке особо располагаться не дали: искать пятый угол в квадратной камере дело накладное. Наклали полные бока. А потом в Бутырку перевезли, в камеру многоместную. "Сижу я целый день, скучая, в окно тюремное гляжу, а слезы капают, братишка, потихонечку по исхудалому лицу". Петь в тюрьме запрещено, а хочется. Садятся в кружок, запевала спиной к двери, чтобы не засекли. И поехали: "И вот пошел я на работу. С собой взял пару сухарей". А круговые сопровождают: "Тумба-тумба. Тумба-тумба". Глазок в двери, васиздас, открывается, входят двое, Мишку под белы рученьки на лестницу, а впереди третий, вот он-то забойщиком будет. Руки заламывают назад и стремительно сводят с лестницы, а на площадке тормозит кулаком в челюсть забойщик-паразит. Но это все байки, хотя челюсть потом долго ноет. Вызывали к следователю, все честь по чести. Только вот Мишка все дело испортил, схватил стеклянную пепельницу и хрясь себе по голове. Залился кровию, со лба безумного стекающу. Отпустили домой бедолагу, к детям малым и голодным, как просила слезно Мать из 79-ой. Увидал ее в переулке Мишаня, с детьми из церкви возвращаясь, и кинулся на брусчатку мостовой, понудив и детей всех четверых рядом в луже на колени встать. "Уж прости ты нас, матушка!" – cлезьми обливаясь, просили. Сама вся в слезах, еле сбежала сердобольная. И все из-за того, что ходил по коридору следователь, опрашивал народ и удивлялся, как это такой малый шкет кучу здоровяков одолел, сомнительно это как-то, да и детишек его кривоногих жалко. Выпустили Мишу бегать по коридору по вечерам, да вопить от безысходности чужих мыслей. В общении с нормальными соседями его лицо выражало внимание, сосредоточенность и восприимчивость. Даже неспокойные и быстрые глаза лучили ум и благожелательность. Бывало, разойдутся гости, а хозяин Митя позовет к еще не убранному столу. Посидят, потолкуют, выпьют, да не по разу, соберут со стола всего понемножку и
детям на тарелках отнесут. Ну, а если не было почему-либо Мишани, просто складывал ему на стол тарелки с закусем. Шкалята все подберут, посуду помоют, а тарелки уж тоже молча на стол дарителям поставят. Так бы все
замечательно и шло, да вот случилось беспричинное – повесился, бедолага. Тонька, как обычно, стирала, упершись корытом в стенной изгиб, на кухне, на газовой конфорке в баке мирно плескалось через край мыльно-водяное варево, а в комнате, в петле бельевой веревки, притороченной к надоконному костылю, корчился, суча ногами, тщедушный маленький человечек. Слепездень-Тонька поводила носом вдоль тела, убедилась, что оно мужнино, и возопила. Хрипя и отплевываясь, прибежал с кухни АртПед Саша, теряя крупные капли пота с листоноса, кухонным ножом перерезал с двух попыток веревку и опрокинулся на пол, стряхивая невесомое тельце
неудавшегося висельника. Тумба-тумба. Отлежался Мишаня. Какое-то время нахаживал вместе с детьми в церковь, но из-за преследовавшего его постоянно запаха черемухи, перестал ходить через улицу по переулку к высокой храмине на пригорке. Да и раздражали его часто проносящиеся милицейские машины, которые он атаковывал камнями, да и чем ни попадя. Дети весело принимали посильное участие, призываемые отцом. Тумба-тумба.
Запах, запах гнал его по улицам, переулкам, из дома на кухню, дальше, быстрее. "Черемуха!" И вправду, сам он на себе носил жуткий, отвратительный запах чего-то противоприродного, может это от ханки, которой его пользовал знакомый ханыга. Тумба. Через полгода он снова повесился, на том же самом крюке, Тонька также стирала, также вошла в дом, но вопить не стала. Вернулась к корыту, отжала белье, еще раз глянула на уже не дрыгающего вонючего муженька и уж тогда возопила: "Миша повесился!" 03! Пульс уже не прощупывался. Тумба!.. Потом Тонька продолжала стирать, дети шнырить. Из двери 80-ой, вылезши из под диванов, к Шкаликовым рваными клубками покатились черные, косматые бесовы тени, визжа и скрежеща, поволокли свою добычу по коридору, на сгибе которого наткнулись на мечеподобное пламя, лизнувшее их по шерсти. В коридоре резко запахло горелой шерстью.
Эдакий сумбур, винегрет с салатом. Орут, чего-то требуют, шевелятся и раздирают крышку черепа. Гонят, незнамо куда, погоняют. Нету от них спасу. Выбежит в коридор, мечется от стены к стене, от сортира на кухню, в дом и из дома. Возопит к потолку, к богу, к соседям. Не слышит никто. Только замки да крючки по щеколдам стучат. Попрятались гады, притихли, прильнув ушами к щелям. У, как бандит бесится! У, как его бесы корчат! Стал частенько по церквам ходить, крестик на тонкую шейку гайтаном подвязал. Вроде как полегчало, да не вполне. А тут раз днем вышел из комнаты на кухню, там, как входишь, Лелькин стол стоит. Она, как королева, в резиновых перчатках картошку своему мужу чистит. Весело-радостную мелодийку мурлычет. "Стерва", – Миша говорит, она ни гу-гу. Дошел до конца кухни, подвернул пламя газа, (а свое нутряное еще больше вспыхнуло), ну и врезал ей по тонкой и длинной шее. Лелька в голос кричит: "Гера!" Тот черкопыткой несется. Топ да топ. Мишка санки детские со стены сдергивает – и всего разок по башке его, по кумполу. Убийца всей геркой на пол и рухнул. Выбегает тут Вертухай – и ему санями, тот наземь. Пасынок Сопливый откуда-то взялся, да со спины с Мишаниной согбенной хвать его обеими руками, да не удержал, пьянь рыхлая. Вывернулся как-то Мишка, да и зубами выхватил мяса клок. Правда, выплюнул тут же. Их много, он один. Подался в дом, схватил сапожный – криво отточенное ножовочное полотно и пригласил вежливо: "заходите, гады, по одному". Не заходят чего-то, толпятся, потом расступились, пропустили двух ментов. Спустили Мишу этажом ниже, там тогда 50-десятое отделение располагалось. Мишке особо располагаться не дали: искать пятый угол в квадратной камере дело накладное. Наклали полные бока. А потом в Бутырку перевезли, в камеру многоместную. "Сижу я целый день, скучая, в окно тюремное гляжу, а слезы капают, братишка, потихонечку по исхудалому лицу". Петь в тюрьме запрещено, а хочется. Садятся в кружок, запевала спиной к двери, чтобы не засекли. И поехали: "И вот пошел я на работу. С собой взял пару сухарей". А круговые сопровождают: "Тумба-тумба. Тумба-тумба". Глазок в двери, васиздас, открывается, входят двое, Мишку под белы рученьки на лестницу, а впереди третий, вот он-то забойщиком будет. Руки заламывают назад и стремительно сводят с лестницы, а на площадке тормозит кулаком в челюсть забойщик-паразит. Но это все байки, хотя челюсть потом долго ноет. Вызывали к следователю, все честь по чести. Только вот Мишка все дело испортил, схватил стеклянную пепельницу и хрясь себе по голове. Залился кровию, со лба безумного стекающу. Отпустили домой бедолагу, к детям малым и голодным, как просила слезно Мать из 79-ой. Увидал ее в переулке Мишаня, с детьми из церкви возвращаясь, и кинулся на брусчатку мостовой, понудив и детей всех четверых рядом в луже на колени встать. "Уж прости ты нас, матушка!" – cлезьми обливаясь, просили. Сама вся в слезах, еле сбежала сердобольная. И все из-за того, что ходил по коридору следователь, опрашивал народ и удивлялся, как это такой малый шкет кучу здоровяков одолел, сомнительно это как-то, да и детишек его кривоногих жалко. Выпустили Мишу бегать по коридору по вечерам, да вопить от безысходности чужих мыслей. В общении с нормальными соседями его лицо выражало внимание, сосредоточенность и восприимчивость. Даже неспокойные и быстрые глаза лучили ум и благожелательность. Бывало, разойдутся гости, а хозяин Митя позовет к еще не убранному столу. Посидят, потолкуют, выпьют, да не по разу, соберут со стола всего понемножку и
детям на тарелках отнесут. Ну, а если не было почему-либо Мишани, просто складывал ему на стол тарелки с закусем. Шкалята все подберут, посуду помоют, а тарелки уж тоже молча на стол дарителям поставят. Так бы все
замечательно и шло, да вот случилось беспричинное – повесился, бедолага. Тонька, как обычно, стирала, упершись корытом в стенной изгиб, на кухне, на газовой конфорке в баке мирно плескалось через край мыльно-водяное варево, а в комнате, в петле бельевой веревки, притороченной к надоконному костылю, корчился, суча ногами, тщедушный маленький человечек. Слепездень-Тонька поводила носом вдоль тела, убедилась, что оно мужнино, и возопила. Хрипя и отплевываясь, прибежал с кухни АртПед Саша, теряя крупные капли пота с листоноса, кухонным ножом перерезал с двух попыток веревку и опрокинулся на пол, стряхивая невесомое тельце
неудавшегося висельника. Тумба-тумба. Отлежался Мишаня. Какое-то время нахаживал вместе с детьми в церковь, но из-за преследовавшего его постоянно запаха черемухи, перестал ходить через улицу по переулку к высокой храмине на пригорке. Да и раздражали его часто проносящиеся милицейские машины, которые он атаковывал камнями, да и чем ни попадя. Дети весело принимали посильное участие, призываемые отцом. Тумба-тумба.
Запах, запах гнал его по улицам, переулкам, из дома на кухню, дальше, быстрее. "Черемуха!" И вправду, сам он на себе носил жуткий, отвратительный запах чего-то противоприродного, может это от ханки, которой его пользовал знакомый ханыга. Тумба. Через полгода он снова повесился, на том же самом крюке, Тонька также стирала, также вошла в дом, но вопить не стала. Вернулась к корыту, отжала белье, еще раз глянула на уже не дрыгающего вонючего муженька и уж тогда возопила: "Миша повесился!" 03! Пульс уже не прощупывался. Тумба!.. Потом Тонька продолжала стирать, дети шнырить. Из двери 80-ой, вылезши из под диванов, к Шкаликовым рваными клубками покатились черные, косматые бесовы тени, визжа и скрежеща, поволокли свою добычу по коридору, на сгибе которого наткнулись на мечеподобное пламя, лизнувшее их по шерсти. В коридоре резко запахло горелой шерстью.Комната № 81
Сироткины. Сергея как-то не назовешь отцом семейства или, что еще несуразней, главой. А ведь служил Сяреж, не где там нибудь, а в самом, что ни есть, Кремле. Он был главным ответственным за чистоту в конюшнях Кремля.  Конечно, иногда приходилось и самому чистить в конюшнях, но ведь за какими конями?! Что там твои люди-человеки!.. Но это все секрет. И посему, отличался Сяреж особой молчаливостью и малословием. Да и слов-то мало знать надо для общения. На работе: "тпру, да ну", дома почти тоже. Худее худого, но зато прямее горбатого он скромно тащил домой свое тщедушное маломерное тельце. Дома
он мало чем помогал жене Нюрке. Разве что, по наущению ее поучит первенца, можно и ремешком, ведь тонюсенький он. Сын-заика, Заикою и кликали, внешне – копия отца, как будто только
что вышедшего из китайской прачечной, что через переулок на углу в подвале. Поэтому, когда подрос, и шла война в Абиссинии – Эфиопии, Абиссинцем и звали во дворе и школе. Били его
нещадно, во дворе, школе и дома. Особо доставалось при приторочке его к ножной швейной машинке от поучений ремнем конюха-кремлевца. Нюрка пыталась что-то шить-кроить, но как-то не получалось, так что машинку за ненадобностью загнали, а Заику пришлось лупить вручную, без страховки. Нюрка попозже прошла диспансер и стала инвалидом, шизой. Так что, кому таторы, а кому и ляторы. Кому институты, а кому психушки. Нюрка получила новую специальность – сборщица-надомница. Приносили ей домой пару плетеных корзин с деталями, и
она должна была собрать их в определенной последовательности, что Нюрка и делала. Вот только лярвы по ночам все деталюшки перепутывали и тем заставляли ее лишний раз разбирать их по кучечкам. Иногда она деловито
подходила к телефону и по бумажечке диктовала о необходимости привоза 1000 тютелек, 500 путелек, 700 таторов и 800 ляторов. Что ей незамедлительно и доставляли. А лярвы оставались посрамленными, так как план она выполняла и перевыполняла. На кухне Нюрка бесконечно кипятила воду в чайнике, сливала кипяток в раковину, наполняла водой, и по новой, и много, много раз. А рядом на плите стояла, постоянная соседка чайника, кастрюля со свеклой и морковкой. Но уж в раковину она сливала только воду, остальное таранила домой. А, что там она с ними делала – величайшая тайна есть. Успела себя еще раз проявить как способная женщина, родила сборщица-надомница в ночь Альку-дочь. Вот уж из нее лошадь выросла, высокая и мощная. Ну, да не первая она была. Первая – Юлька-свистуха. Все время свистела, а бывало и попоет: "Жил-был на Подоле Гоп со Смыком". Так что, понятна и ее обыденная кличка – "Гоп со смыком". Во время войны она работала экспeдиторшей, сопровождающей грузы-товары на кузове грузовика. При въезде в подворотню, увлеченная самоисполнением свиста-пения, не заметила кирпичного потолка арки, и ей снесло башку-головушку. Черепушку перед отпеванием платочком подвязали. Зато двое сирых Сироткиных выросли и в люди определились. Заика, хоть за неуспеваемость был отчислен из школы, окончил техникум, и заслуженно занимал контролерскую каморку на заводе. Там ли, или где-то в городе, но все же встретил свою, вернее чужую, т. к. была она уже дважды, a может, и четырежды замужем Ксану, чистюлечку стируху-старуху, в полтора раза больше годов ей было. Стирала она рьяно с остервенением половики-тряпочки, матерчатые тапочки и шапочки. А если уж нечего стирать, то можно и погладить, раскалив цельнометаллический утюг на высокопламенной газовой горелке. Дел по морщинистое узловатое горло. Ну, всеобязательно, главное – блюсти в чистоте, сытости и строгости долгожданного большеголового дитятю. Дочь, субъект гордости Заики и Ксаны, обладала редкостной величины оголовником, равным двум родительским. Холила и блюла ее Ксана. Водила дочь в спецшколу. Дочь и сама могла туда ходить, да вот
из-за тяжести башки, которую приходилось задирать, ничего, кроме неба, не видела, да и занята была – все время ела. Зато выросла, не в пример папеньке, толстой и большой. А если кто-то что и говорит, то от зависти. Валера, братец Заики, рос стремительно, и стремительным и мобильным вырос. Портной из него получился, дамский юбочник. Почему-то его прозвали Парикмахером, может быть, за тщательно ухоженный модный чубчик, "вшивый домик" такой завистниками обзывался. Благодаря ли домику, или юбкам он быстренько
обженился, и мало кто его видел из-за его вихревого пролета по длиннотам коридора. Уже перед съездом Валерик снял со всего пола паркет, со своей же комнатухи и хотел поиметь, но кто-то стукнул, пришла снизу милиция и
поимела сложенный рядком вожделенный паркетец. Дело к Раздраю шло.
Конечно, иногда приходилось и самому чистить в конюшнях, но ведь за какими конями?! Что там твои люди-человеки!.. Но это все секрет. И посему, отличался Сяреж особой молчаливостью и малословием. Да и слов-то мало знать надо для общения. На работе: "тпру, да ну", дома почти тоже. Худее худого, но зато прямее горбатого он скромно тащил домой свое тщедушное маломерное тельце. Дома
он мало чем помогал жене Нюрке. Разве что, по наущению ее поучит первенца, можно и ремешком, ведь тонюсенький он. Сын-заика, Заикою и кликали, внешне – копия отца, как будто только
что вышедшего из китайской прачечной, что через переулок на углу в подвале. Поэтому, когда подрос, и шла война в Абиссинии – Эфиопии, Абиссинцем и звали во дворе и школе. Били его
нещадно, во дворе, школе и дома. Особо доставалось при приторочке его к ножной швейной машинке от поучений ремнем конюха-кремлевца. Нюрка пыталась что-то шить-кроить, но как-то не получалось, так что машинку за ненадобностью загнали, а Заику пришлось лупить вручную, без страховки. Нюрка попозже прошла диспансер и стала инвалидом, шизой. Так что, кому таторы, а кому и ляторы. Кому институты, а кому психушки. Нюрка получила новую специальность – сборщица-надомница. Приносили ей домой пару плетеных корзин с деталями, и
она должна была собрать их в определенной последовательности, что Нюрка и делала. Вот только лярвы по ночам все деталюшки перепутывали и тем заставляли ее лишний раз разбирать их по кучечкам. Иногда она деловито
подходила к телефону и по бумажечке диктовала о необходимости привоза 1000 тютелек, 500 путелек, 700 таторов и 800 ляторов. Что ей незамедлительно и доставляли. А лярвы оставались посрамленными, так как план она выполняла и перевыполняла. На кухне Нюрка бесконечно кипятила воду в чайнике, сливала кипяток в раковину, наполняла водой, и по новой, и много, много раз. А рядом на плите стояла, постоянная соседка чайника, кастрюля со свеклой и морковкой. Но уж в раковину она сливала только воду, остальное таранила домой. А, что там она с ними делала – величайшая тайна есть. Успела себя еще раз проявить как способная женщина, родила сборщица-надомница в ночь Альку-дочь. Вот уж из нее лошадь выросла, высокая и мощная. Ну, да не первая она была. Первая – Юлька-свистуха. Все время свистела, а бывало и попоет: "Жил-был на Подоле Гоп со Смыком". Так что, понятна и ее обыденная кличка – "Гоп со смыком". Во время войны она работала экспeдиторшей, сопровождающей грузы-товары на кузове грузовика. При въезде в подворотню, увлеченная самоисполнением свиста-пения, не заметила кирпичного потолка арки, и ей снесло башку-головушку. Черепушку перед отпеванием платочком подвязали. Зато двое сирых Сироткиных выросли и в люди определились. Заика, хоть за неуспеваемость был отчислен из школы, окончил техникум, и заслуженно занимал контролерскую каморку на заводе. Там ли, или где-то в городе, но все же встретил свою, вернее чужую, т. к. была она уже дважды, a может, и четырежды замужем Ксану, чистюлечку стируху-старуху, в полтора раза больше годов ей было. Стирала она рьяно с остервенением половики-тряпочки, матерчатые тапочки и шапочки. А если уж нечего стирать, то можно и погладить, раскалив цельнометаллический утюг на высокопламенной газовой горелке. Дел по морщинистое узловатое горло. Ну, всеобязательно, главное – блюсти в чистоте, сытости и строгости долгожданного большеголового дитятю. Дочь, субъект гордости Заики и Ксаны, обладала редкостной величины оголовником, равным двум родительским. Холила и блюла ее Ксана. Водила дочь в спецшколу. Дочь и сама могла туда ходить, да вот
из-за тяжести башки, которую приходилось задирать, ничего, кроме неба, не видела, да и занята была – все время ела. Зато выросла, не в пример папеньке, толстой и большой. А если кто-то что и говорит, то от зависти. Валера, братец Заики, рос стремительно, и стремительным и мобильным вырос. Портной из него получился, дамский юбочник. Почему-то его прозвали Парикмахером, может быть, за тщательно ухоженный модный чубчик, "вшивый домик" такой завистниками обзывался. Благодаря ли домику, или юбкам он быстренько
обженился, и мало кто его видел из-за его вихревого пролета по длиннотам коридора. Уже перед съездом Валерик снял со всего пола паркет, со своей же комнатухи и хотел поиметь, но кто-то стукнул, пришла снизу милиция и
поимела сложенный рядком вожделенный паркетец. Дело к Раздраю шло.
 Конечно, иногда приходилось и самому чистить в конюшнях, но ведь за какими конями?! Что там твои люди-человеки!.. Но это все секрет. И посему, отличался Сяреж особой молчаливостью и малословием. Да и слов-то мало знать надо для общения. На работе: "тпру, да ну", дома почти тоже. Худее худого, но зато прямее горбатого он скромно тащил домой свое тщедушное маломерное тельце. Дома
он мало чем помогал жене Нюрке. Разве что, по наущению ее поучит первенца, можно и ремешком, ведь тонюсенький он. Сын-заика, Заикою и кликали, внешне – копия отца, как будто только
что вышедшего из китайской прачечной, что через переулок на углу в подвале. Поэтому, когда подрос, и шла война в Абиссинии – Эфиопии, Абиссинцем и звали во дворе и школе. Били его
нещадно, во дворе, школе и дома. Особо доставалось при приторочке его к ножной швейной машинке от поучений ремнем конюха-кремлевца. Нюрка пыталась что-то шить-кроить, но как-то не получалось, так что машинку за ненадобностью загнали, а Заику пришлось лупить вручную, без страховки. Нюрка попозже прошла диспансер и стала инвалидом, шизой. Так что, кому таторы, а кому и ляторы. Кому институты, а кому психушки. Нюрка получила новую специальность – сборщица-надомница. Приносили ей домой пару плетеных корзин с деталями, и
она должна была собрать их в определенной последовательности, что Нюрка и делала. Вот только лярвы по ночам все деталюшки перепутывали и тем заставляли ее лишний раз разбирать их по кучечкам. Иногда она деловито
подходила к телефону и по бумажечке диктовала о необходимости привоза 1000 тютелек, 500 путелек, 700 таторов и 800 ляторов. Что ей незамедлительно и доставляли. А лярвы оставались посрамленными, так как план она выполняла и перевыполняла. На кухне Нюрка бесконечно кипятила воду в чайнике, сливала кипяток в раковину, наполняла водой, и по новой, и много, много раз. А рядом на плите стояла, постоянная соседка чайника, кастрюля со свеклой и морковкой. Но уж в раковину она сливала только воду, остальное таранила домой. А, что там она с ними делала – величайшая тайна есть. Успела себя еще раз проявить как способная женщина, родила сборщица-надомница в ночь Альку-дочь. Вот уж из нее лошадь выросла, высокая и мощная. Ну, да не первая она была. Первая – Юлька-свистуха. Все время свистела, а бывало и попоет: "Жил-был на Подоле Гоп со Смыком". Так что, понятна и ее обыденная кличка – "Гоп со смыком". Во время войны она работала экспeдиторшей, сопровождающей грузы-товары на кузове грузовика. При въезде в подворотню, увлеченная самоисполнением свиста-пения, не заметила кирпичного потолка арки, и ей снесло башку-головушку. Черепушку перед отпеванием платочком подвязали. Зато двое сирых Сироткиных выросли и в люди определились. Заика, хоть за неуспеваемость был отчислен из школы, окончил техникум, и заслуженно занимал контролерскую каморку на заводе. Там ли, или где-то в городе, но все же встретил свою, вернее чужую, т. к. была она уже дважды, a может, и четырежды замужем Ксану, чистюлечку стируху-старуху, в полтора раза больше годов ей было. Стирала она рьяно с остервенением половики-тряпочки, матерчатые тапочки и шапочки. А если уж нечего стирать, то можно и погладить, раскалив цельнометаллический утюг на высокопламенной газовой горелке. Дел по морщинистое узловатое горло. Ну, всеобязательно, главное – блюсти в чистоте, сытости и строгости долгожданного большеголового дитятю. Дочь, субъект гордости Заики и Ксаны, обладала редкостной величины оголовником, равным двум родительским. Холила и блюла ее Ксана. Водила дочь в спецшколу. Дочь и сама могла туда ходить, да вот
из-за тяжести башки, которую приходилось задирать, ничего, кроме неба, не видела, да и занята была – все время ела. Зато выросла, не в пример папеньке, толстой и большой. А если кто-то что и говорит, то от зависти. Валера, братец Заики, рос стремительно, и стремительным и мобильным вырос. Портной из него получился, дамский юбочник. Почему-то его прозвали Парикмахером, может быть, за тщательно ухоженный модный чубчик, "вшивый домик" такой завистниками обзывался. Благодаря ли домику, или юбкам он быстренько
обженился, и мало кто его видел из-за его вихревого пролета по длиннотам коридора. Уже перед съездом Валерик снял со всего пола паркет, со своей же комнатухи и хотел поиметь, но кто-то стукнул, пришла снизу милиция и
поимела сложенный рядком вожделенный паркетец. Дело к Раздраю шло.
Конечно, иногда приходилось и самому чистить в конюшнях, но ведь за какими конями?! Что там твои люди-человеки!.. Но это все секрет. И посему, отличался Сяреж особой молчаливостью и малословием. Да и слов-то мало знать надо для общения. На работе: "тпру, да ну", дома почти тоже. Худее худого, но зато прямее горбатого он скромно тащил домой свое тщедушное маломерное тельце. Дома
он мало чем помогал жене Нюрке. Разве что, по наущению ее поучит первенца, можно и ремешком, ведь тонюсенький он. Сын-заика, Заикою и кликали, внешне – копия отца, как будто только
что вышедшего из китайской прачечной, что через переулок на углу в подвале. Поэтому, когда подрос, и шла война в Абиссинии – Эфиопии, Абиссинцем и звали во дворе и школе. Били его
нещадно, во дворе, школе и дома. Особо доставалось при приторочке его к ножной швейной машинке от поучений ремнем конюха-кремлевца. Нюрка пыталась что-то шить-кроить, но как-то не получалось, так что машинку за ненадобностью загнали, а Заику пришлось лупить вручную, без страховки. Нюрка попозже прошла диспансер и стала инвалидом, шизой. Так что, кому таторы, а кому и ляторы. Кому институты, а кому психушки. Нюрка получила новую специальность – сборщица-надомница. Приносили ей домой пару плетеных корзин с деталями, и
она должна была собрать их в определенной последовательности, что Нюрка и делала. Вот только лярвы по ночам все деталюшки перепутывали и тем заставляли ее лишний раз разбирать их по кучечкам. Иногда она деловито
подходила к телефону и по бумажечке диктовала о необходимости привоза 1000 тютелек, 500 путелек, 700 таторов и 800 ляторов. Что ей незамедлительно и доставляли. А лярвы оставались посрамленными, так как план она выполняла и перевыполняла. На кухне Нюрка бесконечно кипятила воду в чайнике, сливала кипяток в раковину, наполняла водой, и по новой, и много, много раз. А рядом на плите стояла, постоянная соседка чайника, кастрюля со свеклой и морковкой. Но уж в раковину она сливала только воду, остальное таранила домой. А, что там она с ними делала – величайшая тайна есть. Успела себя еще раз проявить как способная женщина, родила сборщица-надомница в ночь Альку-дочь. Вот уж из нее лошадь выросла, высокая и мощная. Ну, да не первая она была. Первая – Юлька-свистуха. Все время свистела, а бывало и попоет: "Жил-был на Подоле Гоп со Смыком". Так что, понятна и ее обыденная кличка – "Гоп со смыком". Во время войны она работала экспeдиторшей, сопровождающей грузы-товары на кузове грузовика. При въезде в подворотню, увлеченная самоисполнением свиста-пения, не заметила кирпичного потолка арки, и ей снесло башку-головушку. Черепушку перед отпеванием платочком подвязали. Зато двое сирых Сироткиных выросли и в люди определились. Заика, хоть за неуспеваемость был отчислен из школы, окончил техникум, и заслуженно занимал контролерскую каморку на заводе. Там ли, или где-то в городе, но все же встретил свою, вернее чужую, т. к. была она уже дважды, a может, и четырежды замужем Ксану, чистюлечку стируху-старуху, в полтора раза больше годов ей было. Стирала она рьяно с остервенением половики-тряпочки, матерчатые тапочки и шапочки. А если уж нечего стирать, то можно и погладить, раскалив цельнометаллический утюг на высокопламенной газовой горелке. Дел по морщинистое узловатое горло. Ну, всеобязательно, главное – блюсти в чистоте, сытости и строгости долгожданного большеголового дитятю. Дочь, субъект гордости Заики и Ксаны, обладала редкостной величины оголовником, равным двум родительским. Холила и блюла ее Ксана. Водила дочь в спецшколу. Дочь и сама могла туда ходить, да вот
из-за тяжести башки, которую приходилось задирать, ничего, кроме неба, не видела, да и занята была – все время ела. Зато выросла, не в пример папеньке, толстой и большой. А если кто-то что и говорит, то от зависти. Валера, братец Заики, рос стремительно, и стремительным и мобильным вырос. Портной из него получился, дамский юбочник. Почему-то его прозвали Парикмахером, может быть, за тщательно ухоженный модный чубчик, "вшивый домик" такой завистниками обзывался. Благодаря ли домику, или юбкам он быстренько
обженился, и мало кто его видел из-за его вихревого пролета по длиннотам коридора. Уже перед съездом Валерик снял со всего пола паркет, со своей же комнатухи и хотел поиметь, но кто-то стукнул, пришла снизу милиция и
поимела сложенный рядком вожделенный паркетец. Дело к Раздраю шло.Комната № 82
Постоянные жители, династийно, значит по праву, проживавшие из поколения в поколение. Поколе не разодрали, весь, что ни на есть, Дом в кирпичи и труху. Пока обреталась здесь многочисленная семья Ахматовых. Дед-основатель еще во времена оны
возлюбил Юнону, и это при живой-то жене. Но, поскольку Дед имел непосредственное отношение к владельцу Дома, сумел при передаче недвижимости в госсобственность, поиметь для созданной им новой семьи отдельную, от брошенной плеяды-пляти сродственников, двухкомнатную, скромную по дореволюционным меркам квартирку. Ходил он, не глядя на окружающих, с гордым и независимым видом. Он и вправду ни от кого не зависел, уж тем более от скромной зарплаты сов.служащего. Жить сытно и пьяно помогала собранная червонец к червонцу движимость в
золотом весомом воплощении. Говаривали, что это наследство самих масонских Селивановых. Так что и на похороны, и на свадебку Юноне хватило. А живущая в коридоре вдова, Баба Яковлевна обреталась в комнате № 84 и особо не тужила, подпитываясь помаленьку продуктами из Торгсина – магазинa для торговли с иностранцами и откачки из них золотишка. Дед не оставил без милости бывшую супругу. Так тихо и
малозаметно проковыляла Яковлевна в неизменном черном балахоне вдогонку за Дедом. В комнате 82 в три окна процветала семья, возглавляемая Сашей, вероятно, погибшим смертью храбрых в Великую Отечественную войну. Матерью этого побега-ответвления была Уборщица,
приходившаяся то ли дочерью, то ли сестрой Яковлевне из 84-ой. Отличалась одна от другой разве что весом. Яковлевна потолще, посолидней, Уборщица – сухонькая и тихая, однако накидала троих сыновей. Старший Саша успел жениться, воспроизвести сына Кольку, и благополучно сгинул в ту же Великую, Отечественную. Жена Ольга, работавшая в планетарии директором буфета, цвела и процветала. Некогда было скорбеть. Правда, привечали и приметили ее в церкви на улице Грановского – за уникальную способность кричать истошно и навзрыд при подходе к храму. Происходило это у нее спонтанно и автоматически. Верующие после просмотра такого сеанса одержимости еще больше верили, посему Ольгу вызвали куда-то и посоветовали выбрать: или планетарий, или церковь. Выбор оказался в пользу звездного неба. Кликуша, а по совместительству просветительница-меценатка. Коридорную детвору приглашала на звездные утренники, а однажды и на вечернее представление, где под слезы и всхлипывания детворы торжественно сожгли на красно-желтых тряпичных лоскутьях, развевающихся над вентилятором, Джордано Бруно. "Один в поле воин. Большинство не обязательно право". Ну, а гелиоцентризм – это тюлька, давно всем известная. Святая простота. Как-то незаметно муж Ольги пропал на войне, Ольга в это голодное время долго не печалилась. Обилие
возможностей в буфете планетария привлекало к ней смелых и голодных мужиков тыла. Так появился боевой капитан, герой всего Советского Союза, Константин. Матрасил, матросил, а потом куда-то делся. Нe одна только буфетная директриса интересовалась его отсутствием – и милиция тоже. Убил Костя какую-то бабу, забрал ее драгоценности и смылся. У Ахматовых два дня была милицейская засада, потом ее сняли, так как Костю поймали у третьей знакомой, а может у четвертой. Конечно, оказалось, что он никакой нe капитан и уж, конечно, не герой. Расстреляли его. По законам военного времени.
Ну, так. Уборщица работала уборщицей в подвале через переулок, прямо напротив парадного. Сначала там была закусочная. По сто граммов в разлив, тарелочка с селедочкой, парой ломтиков картошки и долькой соленого огурца. Хочешь, если есть хрусты, – повтори. Потом там заделали сортир с кабинками и оплатой. Пописать в белый унитаз платить не надо, чего серьезней в кабинке с запиркой, плати гривенник. Дал другую монетку 15 или 20, можешь получить сдачи из кально-мочевых морщинистых рук уборщицы. Многие стеснялись или брезговали. В реформу денежную, Уборщица отволокла два мешочка мелочи и получила крупненькую сумму в новеньких купюрах. Не все так здорово: младшенького, Ваничку, убило на войне. Прислали похоронку. Вымочила ее всю старческими пересоленными слезьми. "Уж ты мой Ваничка, уж ты мой миленький, родименький, кровинушка моя…" Потом опять сортир, мокрые полы и тряпки, но уж автоматически – безразлично и отрешенно. Отделили ей окно, прорубили дверь с табличкой 82-А, и зажила со средним – Васькой двери-вышибателем. Лельку-то он дважды спасал. В городе он работал пришей-пристебателем. Собрал необходимую для поступления в должность официанта ресторана "Арагви" сумму и проработал там недолго. Не понравился почему-то сослуживцам, устроили они ему подлянку, подсунули графин с мочой вместо пива, предназначенного для шефа. Тот мочу сразу распознал, не впервой, и изрек: "Пшел!". Стал работать гардеробщиком в парикмахерской, вместо ресторана. Женился, пожил с Шурой, а потом на нее свалилась неприятность в виде со стены сорвавшейся тяжелой картины, в хорошие времена спертой по случаю. Веревочка оборвалась, тонковата была, да и подпорчена. Потом Васька ушел к другой. Остались Ахматовы в 82-ой. Теперь главным стал Колька. Сеструха его Нинка, еще в бытность Ольги, благополучно вышла замуж за майора и скрылась за горизонтом в военном гарнизоне наших доблестных войск где-то за рубежами прекрасной Родины. Первый брак Коли-милиционера с культурной очкастой архивницой Лидой оказался недолговременным. Не выдержала она совместного ночевания в мочевых простынях, да и образование не позволяло столько стиркой заниматься. Стал Колька, водила с Петровки, опять холостым. Хвалился, что у него даже и форма милицейская есть, да только никто ее не видел. Все равно его недолюбливали. Женился он на приемщице, работавшей в какой-то конторе. Марита, коломенская верста, в прачечную все его простынки-пеленки сдавала, создавая видимость порядка. А благополучие, хотя бы относительное, сумела наворовать. Завистница была, но баба терпеливая. Так, увела у Митьки книжку о том, что делает муж, когда жены нет дома, крашенку-яичко расписное и героически терпела потом всяческие упреки. Ведь с первой брачной ночи она принимала мочевые ванны своего муженька, в обилии натекавшие из источника наслаждений. Терпела. Но ничего, родила сына Веньку, пошел он по
папенькиным мочевым следам, то бишь лужам. Пыталась Верста рационализировать ночной процесс: привязав по пояснице веревочку, притянули к шутильнику гофрированный шланг от противогаза, a другой его конец опустили в трехлитровую банку.  Но, "Ах ты, ночь! Что ты ночь наковеркала?" Все пошло наперекосяк. Шланг в одну сторону, конец в другую, ну а банка на бок. Впечатлений полные штаны, запахом ноздри. Незабываемые впечатления. Сын Венька по этой же причине был определен в спец-роту, роту ссунов. Своеобразно они там ночевали. Кровати двухэтажные. Одну ночь ты спишь наверху, другую внизу. То под душем, то в луже. Многим
такой режим исправления помогает, Веньке не помог. Не помешали все эти обстоятельства его благополучной женитьбе на, опять же, продавщице из угловой булочной. Эдакая сдобная пышка, которая родила очередного
писальника. По турецки: "Шаш у беш – шесть и пять", – врожденное косоглазие, один глаз на 6, другой на 5. Сын – ссун и костляв, по папенькой наводке. Утешает мнение, что это самое свойство передается
только по мужской линии, как гемофилия у царской плеяды. "Как у Царей", – знай наших! Так что, рождение девочки, по-видимому, прекратит эту струю. Пока же Венька по папиным наводкам шоферил, подкармливаясь на
левых подбросах левых пассажиров.
Но, "Ах ты, ночь! Что ты ночь наковеркала?" Все пошло наперекосяк. Шланг в одну сторону, конец в другую, ну а банка на бок. Впечатлений полные штаны, запахом ноздри. Незабываемые впечатления. Сын Венька по этой же причине был определен в спец-роту, роту ссунов. Своеобразно они там ночевали. Кровати двухэтажные. Одну ночь ты спишь наверху, другую внизу. То под душем, то в луже. Многим
такой режим исправления помогает, Веньке не помог. Не помешали все эти обстоятельства его благополучной женитьбе на, опять же, продавщице из угловой булочной. Эдакая сдобная пышка, которая родила очередного
писальника. По турецки: "Шаш у беш – шесть и пять", – врожденное косоглазие, один глаз на 6, другой на 5. Сын – ссун и костляв, по папенькой наводке. Утешает мнение, что это самое свойство передается
только по мужской линии, как гемофилия у царской плеяды. "Как у Царей", – знай наших! Так что, рождение девочки, по-видимому, прекратит эту струю. Пока же Венька по папиным наводкам шоферил, подкармливаясь на
левых подбросах левых пассажиров.
 Но, "Ах ты, ночь! Что ты ночь наковеркала?" Все пошло наперекосяк. Шланг в одну сторону, конец в другую, ну а банка на бок. Впечатлений полные штаны, запахом ноздри. Незабываемые впечатления. Сын Венька по этой же причине был определен в спец-роту, роту ссунов. Своеобразно они там ночевали. Кровати двухэтажные. Одну ночь ты спишь наверху, другую внизу. То под душем, то в луже. Многим
такой режим исправления помогает, Веньке не помог. Не помешали все эти обстоятельства его благополучной женитьбе на, опять же, продавщице из угловой булочной. Эдакая сдобная пышка, которая родила очередного
писальника. По турецки: "Шаш у беш – шесть и пять", – врожденное косоглазие, один глаз на 6, другой на 5. Сын – ссун и костляв, по папенькой наводке. Утешает мнение, что это самое свойство передается
только по мужской линии, как гемофилия у царской плеяды. "Как у Царей", – знай наших! Так что, рождение девочки, по-видимому, прекратит эту струю. Пока же Венька по папиным наводкам шоферил, подкармливаясь на
левых подбросах левых пассажиров.
Но, "Ах ты, ночь! Что ты ночь наковеркала?" Все пошло наперекосяк. Шланг в одну сторону, конец в другую, ну а банка на бок. Впечатлений полные штаны, запахом ноздри. Незабываемые впечатления. Сын Венька по этой же причине был определен в спец-роту, роту ссунов. Своеобразно они там ночевали. Кровати двухэтажные. Одну ночь ты спишь наверху, другую внизу. То под душем, то в луже. Многим
такой режим исправления помогает, Веньке не помог. Не помешали все эти обстоятельства его благополучной женитьбе на, опять же, продавщице из угловой булочной. Эдакая сдобная пышка, которая родила очередного
писальника. По турецки: "Шаш у беш – шесть и пять", – врожденное косоглазие, один глаз на 6, другой на 5. Сын – ссун и костляв, по папенькой наводке. Утешает мнение, что это самое свойство передается
только по мужской линии, как гемофилия у царской плеяды. "Как у Царей", – знай наших! Так что, рождение девочки, по-видимому, прекратит эту струю. Пока же Венька по папиным наводкам шоферил, подкармливаясь на
левых подбросах левых пассажиров.По соседству в 82-А новые постояльцы, вернее
непостоянцы. Евины. Свою угловую комнату хозяйка превратила в игрушку, ну там занавесочки, салфеточки, столики-тумбочки и прочие приятные и необходимые в быту вещи. Сама из
себя она была тапершей, роялила и пианинила и на радио, и в театре при прогонах, и дома с частниками. Да и личные, вернее, тельные так необходимые в бытии милые удовольствия имели место. "Не могу я этот цимес
воспринимать кое-как. Должен быть уют, притемье и мит компот". "Проходите в комнате", – это она с чисто одесским гостеприимством приглашает в дом очередного претендента на цимес мит компот. Ее Боря служил у моря. У моря северного. Не шалил бы с мальчиками курсантами
капельмейстерского училища, по-прежнему махал бы дирижерской палочкой в столицах. Но помог Лилин брат, тоже дирижер, только пехотный, его даже по телику во время парада показывали. Так что, Боря бороздил море аж на
флагмане. Недолго: брат в Москву перевел. Лиля тоже не лишена была педофилического дара, возлюбила татарчонка из 85-ой. Метровый и худой Гена, рано приобщенный к
многоопытному телу, слабо развивался, но почувствовал себя избранным и был деланно деловит и, кому надо, послушен. Когда же Боря вышел из моря, пришлось разыгрывать комедию со сватовством к дочери Евиных,
полнотелой и оформившейся в волнующие излишества Ире. Ничего путного из этой затеи не вышло, да и Боря, лишенный голоса из-за всплывших отклонений, особо не возражал против жизнелюбия своей
благоверной. Она же, по утрам разодрав чуть не до крови межпаховое руно, мило ворковала на кухне с соседками, готовя из печенья торт. Так что Лиля во всю юлила по городу в поисках помощников Геночке, от которого ни
глубины, ни широты. Ирка по следам своих родителей поначалу пилила скрипку по очереди с отцом, но даже вдвоем так и не перепилили. Потом она била по дощечкам ксилофона, опять не перебила, впрочем так же, как и кожу барабана. Собиралась в Израиль, Баркай обещал взять ee собой, но пыл старичка остыл, и уехал он с семьей. Не все же учить цыган сценическим премудростям, надо и своим помочь. Евиным удалось собрать малую сумму деньжат и приобрести отдельную квартиру в престижном доме. Оборудовали в первую очередь спальню-сексуальню шикарной квадратной кроватью и милыми шкафчиками, тумбочками, канапэ и прочими приятностями. Впрочем, пахло в полутьме спальни дамы полусвета как-то не парфюмно и даже неприятно. Иногда к Евиным приезжали из Одессы папеле с мамеле Лили. Отец ее – старый, едва ползающий Зюс, все еще работал, и не кем-нибудь, а директором комиссионки. Так что, забот хватало. Он часто присылал посылочки из Одессы в Москву, доченьке для реализации, к обоюдной, сами понимаете, выгоде. Вот из этих вот посылочек и выяснилось, что Лиля по паспорту Циля, что не мешало ей быть обаятельной и милой. Маменька, инициатор поездок к бебихам, ползала в два раза быстрее, чем ее старик, и в два раза медленнее, чем ходят нормальные люди. Расфуфыренная в пух и прах, фланировала она из магазина в магазин в поисках радостей. Но где их взять, если не на базаре Одессы, где можно купить все от бюстгальтера на меху до секретов атомной да и водородной бомб. Съехали. Да?! Все Евины. Да!?
Приселились здесь новенькие, старые и бездетные Крупенские. Йося работал в приемке цветмета, не столько работал, сколько зарабатывал. Чего только не принесут эти страждущие утолить жажду, уму непостижимо. Хватало в результате переадресации цветных ценностей и на хлеб с маслом, да и с икрой тоже. Только какой-то забитый Йося был, видимо не так часто его следовало шпынять этой самой Крупенской. А она его блюла в строгости. "Ходил ли ты к заутреннэ? Да??" – бывало, гаркнет на него супружница. Как тут не сходить куда-нибудь? Готовила она дома на керосинке. Отравить могут гои. Да и отправляла нужду тоже дома, благо ночная ваза вместительная, Йося, сопя и обливаясь потом, плеща через край, едва доносил не в полной целости и сохранности вазосодержимое до очка сортира. Иногда приходилось дожидаться, пока освободится место общего пользования. Крупенская требовала уважения своей личности, но так как этого не понимали взрослые, она пыталась привить это чувство малым обитателям коридора. Бывало, прижмет к стене и начнет излагать свою путаную программу поведения воспитанных детей. Некоторые не выдерживали над собой редкозубой дурно пахнущей и изрыгающей непонятные истины рожей и, в голос, зовут родителей спасать своих чад. Так нарвалась на соседа из 79-ой. Он ее саму к стенке прижал да сказал что-то такое, что вывело ее на середину переулка, напротив парадного. "Спасите, убивают!" Так вот и попала она в санаторное отделение психушки. Зато после тише стала и только о храме чаще заговорила. Да-а, были люди в наше время. Сгинули и они.
Комната № 83
По первопамяти, Дядькины здесь жили. Строгая и даже грозная мамаша Котика и мачеха двух запуганных сестер Нади и Лиды. В комнате ничего лишнего, но всего достаточно для нормальной жизни. Вот только кто эти нормы создает? На стене висела плетка двухвостая, для двух сестер. На столике жестяная коробочка с леденцами, для Костика, он уже успел в фильме сняться под названием "По следам героев". Он там танец жирдяя исполнил. Падчерицы ходили, взявшись за руки, в одинаковых сереньких в белый горошек платьицах. Любили сидеть в гостях в 79-ой, где их угощали сладким чаем, а иногда и с конфетами. Вот только у мальчика, хозяйского сына, жутковатый взгляд тяготил. Надя, даже не выдерживая, просила – "Cкажите Митьке, чтобы он на меня не глядел, страшно мне", – канючила и чуть не плакала. Как-то незаметно Дядькины обменялись на подмосковную квартиру, а здесь поселился доктор Нейштад. Редко он появлялся, прошмыгивал к себе в комнатку, почти пустую, и надолго исчезал. Где-то за городом он подвизался в спецбольнице. Но вовремя он
оказался дома, когда Матери из 79 стало так плохо, что она оказалась на полу в луже крови. На крикостон Леньки-Алексея прибежал Нейштад, что-то там сделал, уложил на кровать, возвысив больной ноги на табурет. Остатки крови притекли к голове и спасли ее. Ну, уж, 03-скорая довершила помощь. 83-я первая из всей квартиры опустела, дверь ее забили и уж никого не подселяли. Это уже перед самым раздраем.
Коридор – это главное, это место окончательных решений. Дома, в
комнате только намечаются окончательные мероприятия, но в коридорах принимаются подлежащие к исполнению действия. Хорошая мысля приходит опосля. Лестничный эффект: "Эх! Вот как надо было поступить!" озаряет иного при спуске по маршу ступенек. Поэтому умудреные семейными традициями человеки так много времяни проводят в коридорных междусобойчиках и замолкают при приближении чужаков. Но, конечно, поступят все-таки так, как скажет учитель, на то он и гуру. Да!! Раньше, когда не было таких больших домов с их коридорами, люди собирались кучками во дворах, да и теперь можно узреть эти кучки, стоят себе и кодлуют, не слушая, что там гутарит, тоже-мне-учитель. Все уже давно написано и прописано. Да.
Комната № 84
Здесь, вроде, все уже разъяснено. Сначала Яковлевна в одиночестве пробавлялась, погружаясь в густосладкие мысли-воспоминания о прекрасном дореволюционном ушедшем. Приблизительно те же ассоциации грели сменивших Яковлевну Петровых-старших. Правды ради стоило отметить их переезд из провинции в столицу. Но все хорошее закономерно и ожидаемо, а вот негатив всегда как-то неожидан и случаен. Значит, Василий Григорьевич улыбчивый и приветливый из видного столпа небольшого провинциального городишки переквалифицировался в хорошо зарабатывающего репетитора. Университетское образование чего-нибудь да стоит. Афанасья Григорьевна, поповская дочь, гордилась своими мужчинами, хлопотала на кухне, а в свободное время сплетничала, набираясь информации у дверей квартирантов, прильнув ухом к проему. Васьгриг простудился после баньки сандуновской и отбыл. Афгриг тоже не задержалась. На Петровско-Разумовской братья расселились. Виктор Васич что-то кропал в своем отдельном кабинете, Евгения таганила на кухне, дочь же их Наташа портила жизнь окружающим. Каждому свое свойственно. Младший, Женьвась, весь уже седой, работал директором умирающего кинотеатра. Это после НИИКино-то. Прощевайте!
Комната № 85
Двухоконная, просторная объединила татар Зину и Федора Зыковых. Вероятно, Зейналу и Фарида. Все же, пусть Федор, тем более приятный был человек. Летчик и парашютист. Как тут не сгинуть в войну? Вдове Зине трудно было поднимать сына Гену и дочь Галю. Выручила сметка: покупала дефицитные лекарства, переправляла их в Татарию и имела навар. Хранила она пачки лекарств в печурке, в топке, со стороны изгиба коридора. Вероятно, настучали. Суд да дело. Но через тюрьмы и лагерь, где она по 10-12 часов собирала чайный лист на абхазских плантациях, вывела детей на широкую и ясную. Недаром же великолепная Лиля выбрала ее Гену. Есть в нем стержень-стерженек. Сначала она как-то сторонилась их отношений, но потом вроде как подружки Зина с Лилей стали. Галя транспортный институт, подсказанный Митей, благополучно закончила, вышла замуж, педагогит и воспитывает татарчат. Гена тот же институт окончил и работал инженером в НИИ. Тень отца над ним витала, стал членом, стал секретарем, стал замдиректора по хозяйственной части. Во времена Великого раздрая, секретари да члены партии без надобности, так что пошел на пенсию, на свою и мамину. Спился, потерялся. Он и раньше-то особой стойкостью не отличался: во время застолья запросто мог уронить свою головку в тарелку с закусью и, мирно посапывая, соснуть минуток 30. Теперь вот загибается помаленьку, пришла последняя весть. На то есть причины семейно-радикальные, коренные значит.
Служила она в Пупсоюзе, и ее задачей было разузнать предел цены за товары в предстоящих торгах с фирмачами, что ей и удавалось к обоюдной выгоде. Украшала Света своего невзрачного недомерка как могла. Ну, там зажигалки, пряжки, сигареты, шмотки-шмотки и все самое импортное. Угощала гостей тоже всем зарубежным, где сама частенько по делам службы бывала. Гена из последних юношеских сил сумел-таки оплодотворить девственную истэр своей жене. Вот и родился Лешка носителем церебрального паралича, больного сердца и генной расплаты за грехи тяжкие родителей. Окончил школу, какие-то курсы и работал себе, милый мой, на часовом заводе, пока не приобщился к картам. Раскрутили его каталы карточные, раскатали, пока маменька покрывала долги и счетчики разные. Ну а когда произошел сбой, закатали Лешку вместе с ДЦП и больным сердцем незнамо когда и незнамо где. Не дали результатов многочисленные поиски многого числа деловых и просто сочувствующих знакомых мамы-Светы. Да и времечко пришло. Бросила она чужого и злоневерного попутчика. Эх, раз, что ли. Да еще раз, еще много, много раз. Вышла в очередной раз за разведенка, тоже раза два-три искавшего и нашедшего. По следам героя Гены, новый Евгений сотворил двойню. Такие милые братец Коська и сестра Галя, что ли. Но, к сожалению, с возрастом превратились они в гадких гуся и утку, впрочем, умненьких и благоустроенных. Но все это уже через двукратный обмен квартир и евроремонт, в результате которого в их новой шикарной квартире обильно благоухает всеми прелестями кухни, доносящимися из-под арочного входа в оную. А из окна гараж двухместный виден, одно место для "Мерса", другое для козла "Джипа". Так и стоят себе на приколе, он и она уже состарились, плохо видят, да и достаточной практики вождения не приобрели. Попивают вдоволь и часто, да и это надоело, в основном Свете. Евгений же не прочь налить глазенки, пока кашель не забьет до нетерпимости. Тогда и спатеньки можно, все равно вроде как на пенсии, все научились зеленой плесенью отбиваться, не нужны им знающие и ухищренные счетоводы. Ну, да все это уж в других коридорах, где-то в городе.
Комната № 86
Ветераны жития Мачигины. Таких старожителей немного. Но вот они как-то без главы устроились с самого начала.  Мать с дочерью. И не очень-то им хотелось открывать свою частную жизнь. Олюнчик, дочура с могучую маменьку будет. Что-то там закончила, и благополучно зарабатывала на хлеб секретной статистикой облученных. На все остальное приходилось пускать в расход один из камешков, уютно укрывшихся в шкатулке под кроватью. Там же жил злой и зубастый народец гномов, урчанье и рыки которых изредка вспугивали хозяйку. Комната Мачигиных была нарочито невзрачно обставлена в серовато-замшелых тонах, окна туго занавешены плотными гардинами, а на двери такие же плотные занавеси, увешанные колокольцами. Кто вошел, тот и озвучивает свое появление. Да и это маловероятно, дверь всегда была заперта на щеколду, а на ночь еще и на крюк. Хотелось, чтобы все как у людей, но попался паразит, Исайка проклятый, пришлось его среди ночи с позором изгонять, выбросив верхнюю одежонку, вслед визжащему и недовольному несостоявшемуся Олюсенькому мужу. Постоял он в белых натянутых до подмышек и подвязанных у лодыжек кальсонах, потоптался с ноги на ногу, почесал впалую волосатую грудь сквозь ширинку, да и пошел, жизнью палимый. Да! Меньше бы спрашивал, откуда да откуда. Да?! Однажды к ним воры забрались, но их спугнули, так Мачигина, как вскочит в комнату, и нырь под кровать, что-то там зафиксировала и отвалилась. Милицию-03 не стала вызывать. Да и не Мачигина она вовсе, а мишигинэ, мишигина, что в переводе означает сумасшедшая. Носилась Mишигина стремительно, и глаза ее стремительные бегали, не останавливаясь, туда-сюда. В коридоре и на улице она редко появлялась, да и то все бегом, все бегом. По-тихому съехали, никому не дав своего нового адреса.
Мать с дочерью. И не очень-то им хотелось открывать свою частную жизнь. Олюнчик, дочура с могучую маменьку будет. Что-то там закончила, и благополучно зарабатывала на хлеб секретной статистикой облученных. На все остальное приходилось пускать в расход один из камешков, уютно укрывшихся в шкатулке под кроватью. Там же жил злой и зубастый народец гномов, урчанье и рыки которых изредка вспугивали хозяйку. Комната Мачигиных была нарочито невзрачно обставлена в серовато-замшелых тонах, окна туго занавешены плотными гардинами, а на двери такие же плотные занавеси, увешанные колокольцами. Кто вошел, тот и озвучивает свое появление. Да и это маловероятно, дверь всегда была заперта на щеколду, а на ночь еще и на крюк. Хотелось, чтобы все как у людей, но попался паразит, Исайка проклятый, пришлось его среди ночи с позором изгонять, выбросив верхнюю одежонку, вслед визжащему и недовольному несостоявшемуся Олюсенькому мужу. Постоял он в белых натянутых до подмышек и подвязанных у лодыжек кальсонах, потоптался с ноги на ногу, почесал впалую волосатую грудь сквозь ширинку, да и пошел, жизнью палимый. Да! Меньше бы спрашивал, откуда да откуда. Да?! Однажды к ним воры забрались, но их спугнули, так Мачигина, как вскочит в комнату, и нырь под кровать, что-то там зафиксировала и отвалилась. Милицию-03 не стала вызывать. Да и не Мачигина она вовсе, а мишигинэ, мишигина, что в переводе означает сумасшедшая. Носилась Mишигина стремительно, и глаза ее стремительные бегали, не останавливаясь, туда-сюда. В коридоре и на улице она редко появлялась, да и то все бегом, все бегом. По-тихому съехали, никому не дав своего нового адреса.
 Мать с дочерью. И не очень-то им хотелось открывать свою частную жизнь. Олюнчик, дочура с могучую маменьку будет. Что-то там закончила, и благополучно зарабатывала на хлеб секретной статистикой облученных. На все остальное приходилось пускать в расход один из камешков, уютно укрывшихся в шкатулке под кроватью. Там же жил злой и зубастый народец гномов, урчанье и рыки которых изредка вспугивали хозяйку. Комната Мачигиных была нарочито невзрачно обставлена в серовато-замшелых тонах, окна туго занавешены плотными гардинами, а на двери такие же плотные занавеси, увешанные колокольцами. Кто вошел, тот и озвучивает свое появление. Да и это маловероятно, дверь всегда была заперта на щеколду, а на ночь еще и на крюк. Хотелось, чтобы все как у людей, но попался паразит, Исайка проклятый, пришлось его среди ночи с позором изгонять, выбросив верхнюю одежонку, вслед визжащему и недовольному несостоявшемуся Олюсенькому мужу. Постоял он в белых натянутых до подмышек и подвязанных у лодыжек кальсонах, потоптался с ноги на ногу, почесал впалую волосатую грудь сквозь ширинку, да и пошел, жизнью палимый. Да! Меньше бы спрашивал, откуда да откуда. Да?! Однажды к ним воры забрались, но их спугнули, так Мачигина, как вскочит в комнату, и нырь под кровать, что-то там зафиксировала и отвалилась. Милицию-03 не стала вызывать. Да и не Мачигина она вовсе, а мишигинэ, мишигина, что в переводе означает сумасшедшая. Носилась Mишигина стремительно, и глаза ее стремительные бегали, не останавливаясь, туда-сюда. В коридоре и на улице она редко появлялась, да и то все бегом, все бегом. По-тихому съехали, никому не дав своего нового адреса.
Мать с дочерью. И не очень-то им хотелось открывать свою частную жизнь. Олюнчик, дочура с могучую маменьку будет. Что-то там закончила, и благополучно зарабатывала на хлеб секретной статистикой облученных. На все остальное приходилось пускать в расход один из камешков, уютно укрывшихся в шкатулке под кроватью. Там же жил злой и зубастый народец гномов, урчанье и рыки которых изредка вспугивали хозяйку. Комната Мачигиных была нарочито невзрачно обставлена в серовато-замшелых тонах, окна туго занавешены плотными гардинами, а на двери такие же плотные занавеси, увешанные колокольцами. Кто вошел, тот и озвучивает свое появление. Да и это маловероятно, дверь всегда была заперта на щеколду, а на ночь еще и на крюк. Хотелось, чтобы все как у людей, но попался паразит, Исайка проклятый, пришлось его среди ночи с позором изгонять, выбросив верхнюю одежонку, вслед визжащему и недовольному несостоявшемуся Олюсенькому мужу. Постоял он в белых натянутых до подмышек и подвязанных у лодыжек кальсонах, потоптался с ноги на ногу, почесал впалую волосатую грудь сквозь ширинку, да и пошел, жизнью палимый. Да! Меньше бы спрашивал, откуда да откуда. Да?! Однажды к ним воры забрались, но их спугнули, так Мачигина, как вскочит в комнату, и нырь под кровать, что-то там зафиксировала и отвалилась. Милицию-03 не стала вызывать. Да и не Мачигина она вовсе, а мишигинэ, мишигина, что в переводе означает сумасшедшая. Носилась Mишигина стремительно, и глаза ее стремительные бегали, не останавливаясь, туда-сюда. В коридоре и на улице она редко появлялась, да и то все бегом, все бегом. По-тихому съехали, никому не дав своего нового адреса.В разное время появлялся в коридоре случайно забредший посетитель в клетчатом пиджачишке, слегка припадающий на ногу. Видел его старина Коншин, бедолага Пын, много раз шарахался от него на стену Мишечка-страдалец, провожала недобрым взглядом мишигине. Однажды вошли трое в пестрых одеждах, один с давно не стрижеными волосами в длинном хламидончике, другой, низкорослый в чалме и толстым стеганом халате, а сзади плелся уж совсем старенький, но с живым взглядом раскосых глаз замыкающий. Было ясно, что это к Мите, к нему еще и не такие захаживали.
Прежде чем уйти, не желаете ли в сортирчик? Справа последняя всегда открытая дверь – это маленькая кухня, а в конце налево черный ход, по лестнице без перил прямо во Двор. Так вот, если насчет ватерклозета, так это в малой кухне, сразу же слева. Даже очень чистенько, потребителей на одно очко меньше, чем там в конце коридора напротив Шкаликовых, они же Петушковы, а пока, бросив взгляд на выщербленный пол с торчащими головками гвоздей, на три сундука Мишигиной, через парадное и восемь ступенек, минуя двустворчатые двери парадного, на воздух в переулок, в Столешников.
Последний раз побывали уже в полуразрушенном доме Отец с Зубренком, заехали прихватить на дачу столик кухонный, да вот поскольку содержали они его в чистоте, его начисто и уволокли. Взяли чей-то чужой, на даче все сгодится. Коридор представился в неимоверно раскуроченном виде. Полы подняты, паркет снят, ручки дверей латунные, сохранившиеся еще с царских времен, тоже сорваны-свинчены. Сопровождал их молоденький свежеповатый милиционер. Когда зашли в свою 2-х комнатную, попрощаться, мент обратил их внимание на филенку входной двери, на которой маслом Зубренок написал в свое время икону, по Рублеву. Вверху ее украшала торжественная и пугающая шипами старославянских букв надпись "ТРОИЦА". "Неужто оставите такую красоту?" – воскликнул изумленный и возмущенный хранитель развалин и, вооружившись ломиком, быстренько выломал картину, вручил довольному Зубренку, и потащили они ободранный кухонный столик к ожидавшей их машине. Прощание состоялось. Картину, как и все, что делал сын, Отец выкинул на помойку. Филенка от двери ему пригодилась, забил ею щель в сарае. Уходя, уже перед последним поворотом, пнул ногой Зубренок брошенный старый и открытый сундук, из него выпал серенький с дырочкой камешек, сунул зачем-то его в карман и на время забыл.
А над городом повисла мелодия, доносившаяся из-под древних сводов Кремля: "Тумбала, тумбала тум-балалайка, шпиль балалайка!" Время провозглашения – сейчас, место – наша страна, и никуда мы отсюда ни ногой. Да!! Возжигатели свечей во храмах, разные, и в то же время однообразные, куют подсвечники для установки в центре Ивановской. ТУМБА… 01, 02, 03… ТУМБА… 666… 999. ДА??
Д О М
Малопривлекательный, угловато-ступенчатый без единого архитектурного замысла, Дом смотрел разномерными окнами фасада на Большую Дмитровку и изгибом правого крыла на Столешников, ранее Космодемьянского, переулок. В этом изгибе в 1960-ых благополучно соседствовали столовая, распивочная "Белый Аист" и полтинник-отделение милиции. В 1750 году Селивановские отец и сын устроили в Доме одну из самых первых в Москве типографий. Тогда было разрешено частникам заниматься типографским делом, после запрещения в последние годы правления фривольной Екатерины. Так что, первые книги из этой типографии появились лишь в 1793 г., а уж в XIX веке типография широко разворачивает свое дело. В 1809 году Семен Иоанникеевич Селивановский купил участок с каменным двухэтажным домом и примыкающими к нему строениями.  Здесь он поместил типографию, уже ставшую крупным предприятием, впоследствии в Москве занявшую первое место по количеству изданий. Большую известность получило выполнение заказа графа Румянцева по изданию на его деньги "Собрания государственных грамот…", "Древних российских стихотворений…" и других исторических первоисточников. Здесь же напечатаны "Историческое и топографическое описание первопрестольного града Москвы..." в 1796 г., и один из лучших путеводителей 19 в. – четырехтомную "Москву или Исторический путеводитель…" И. Г. Гурьянова. В его изданиях имена знаменитейших людей России: В. А. Жуковского, И. И. Дмитриева, К. Ф. Рылеева, А. А. Бестужева-Марлинского,
С. Н. Глинки и многих других. В Доме на Большой Дмитровке в 1814-1815 гг. жил Н. М. Карамзин; друг Грибоедова С. Н. Бегичев, друг А. С. Пушкина Кюхельбекер. На литературных вечерах бывали многие писатели и артисты. В октябре 1837 г. Николай Полевой читал драму "Граф Уголино", при встрече В. Г. Белинского с актером П. С. Мочаловым. Издатель С. И. Селивановский, вероятно, состоял в одной из масонских лож, и понятно, что его имя фигурирует на допросах арестованных декабристов. По показаниям В. И. Штейнгеля: "Еще в 1824 г. Рылеев говорил мне: нельзя ли в Москве приобресть членов между купечеством, которые могли бы быть полезны пособием и приготовлением других из своего сословия к свободным правилам… На вопрос Рылеева я тогда решительно ответствовал что в Москве на купечество нельзя рассчитывать, ибо нет ни одного, которому бы можно безопасно вверить тайны общества, что один только Селивановский – известный типографщик – пообразованнее других, но что, впрочем, он не капиталист, а при том и без приема в общество содействует оному изданием книг, к распространению свободных понятий служащих". В Петербурге обеспокоились – еще и купечество может быть замешано в заговоре. Было известно, что Селивановский в последнее время занимался изданием подозрительной энциклопедии. Московскому военному генерал-губернатору полетела депеша из Петербурга с приказом изъять сию энциклопедию. Голицын ответствовал: Получив вечером 9-го числа мая 1826 г. письмо Вашего Превосходительства от 7-го числа насчет московского типографщика Селивановского, я в тот же час поручил исполнить Высочайшую о нем волю господам Московскому обер-полицмейстеру и чиновнику при мне находящемуся, Статскому Советнику Тургеневу. Они в 4 часа по утру сего числа, прибыв в дом Селивановского, забрали у него издаваемую им энциклопедию в трех книгах, уже напечатанную…" Изъяли у Селивановского переписку и деловые документы вместе с его письменными показаниями. Власти не нашли у типографщика ничего предосудительного, хоть он счастливо отделался, на подозрении он все же остался. Типография действовала еще долгое время. В 1835 г. после кончины Семена Иоанникиевича ею управлял его сын Николай Семенович, а потом его дочь Ю. Н. Петрова. В 1864 г. в "Московских ведомостях" можно увидеть рекламное объявление: "Типография, словолитня и гальванопластика Семена Селивановского, в Москве, с 1793 г. Принимает книгопечатание. Адресовать на Большую Дмитровку, в дом Г-жи Петровой, в контору типографии". Прохаживались мимо этого дома и Пушкин с Мицкевичем, что и послужило основанием для переименования улицы в советские времена. А вот Абрам Терц, прогуливавшийся с Александром Сергеевичем без его на это согласия, такой чести не удостоился.
Здесь он поместил типографию, уже ставшую крупным предприятием, впоследствии в Москве занявшую первое место по количеству изданий. Большую известность получило выполнение заказа графа Румянцева по изданию на его деньги "Собрания государственных грамот…", "Древних российских стихотворений…" и других исторических первоисточников. Здесь же напечатаны "Историческое и топографическое описание первопрестольного града Москвы..." в 1796 г., и один из лучших путеводителей 19 в. – четырехтомную "Москву или Исторический путеводитель…" И. Г. Гурьянова. В его изданиях имена знаменитейших людей России: В. А. Жуковского, И. И. Дмитриева, К. Ф. Рылеева, А. А. Бестужева-Марлинского,
С. Н. Глинки и многих других. В Доме на Большой Дмитровке в 1814-1815 гг. жил Н. М. Карамзин; друг Грибоедова С. Н. Бегичев, друг А. С. Пушкина Кюхельбекер. На литературных вечерах бывали многие писатели и артисты. В октябре 1837 г. Николай Полевой читал драму "Граф Уголино", при встрече В. Г. Белинского с актером П. С. Мочаловым. Издатель С. И. Селивановский, вероятно, состоял в одной из масонских лож, и понятно, что его имя фигурирует на допросах арестованных декабристов. По показаниям В. И. Штейнгеля: "Еще в 1824 г. Рылеев говорил мне: нельзя ли в Москве приобресть членов между купечеством, которые могли бы быть полезны пособием и приготовлением других из своего сословия к свободным правилам… На вопрос Рылеева я тогда решительно ответствовал что в Москве на купечество нельзя рассчитывать, ибо нет ни одного, которому бы можно безопасно вверить тайны общества, что один только Селивановский – известный типографщик – пообразованнее других, но что, впрочем, он не капиталист, а при том и без приема в общество содействует оному изданием книг, к распространению свободных понятий служащих". В Петербурге обеспокоились – еще и купечество может быть замешано в заговоре. Было известно, что Селивановский в последнее время занимался изданием подозрительной энциклопедии. Московскому военному генерал-губернатору полетела депеша из Петербурга с приказом изъять сию энциклопедию. Голицын ответствовал: Получив вечером 9-го числа мая 1826 г. письмо Вашего Превосходительства от 7-го числа насчет московского типографщика Селивановского, я в тот же час поручил исполнить Высочайшую о нем волю господам Московскому обер-полицмейстеру и чиновнику при мне находящемуся, Статскому Советнику Тургеневу. Они в 4 часа по утру сего числа, прибыв в дом Селивановского, забрали у него издаваемую им энциклопедию в трех книгах, уже напечатанную…" Изъяли у Селивановского переписку и деловые документы вместе с его письменными показаниями. Власти не нашли у типографщика ничего предосудительного, хоть он счастливо отделался, на подозрении он все же остался. Типография действовала еще долгое время. В 1835 г. после кончины Семена Иоанникиевича ею управлял его сын Николай Семенович, а потом его дочь Ю. Н. Петрова. В 1864 г. в "Московских ведомостях" можно увидеть рекламное объявление: "Типография, словолитня и гальванопластика Семена Селивановского, в Москве, с 1793 г. Принимает книгопечатание. Адресовать на Большую Дмитровку, в дом Г-жи Петровой, в контору типографии". Прохаживались мимо этого дома и Пушкин с Мицкевичем, что и послужило основанием для переименования улицы в советские времена. А вот Абрам Терц, прогуливавшийся с Александром Сергеевичем без его на это согласия, такой чести не удостоился.
 Здесь он поместил типографию, уже ставшую крупным предприятием, впоследствии в Москве занявшую первое место по количеству изданий. Большую известность получило выполнение заказа графа Румянцева по изданию на его деньги "Собрания государственных грамот…", "Древних российских стихотворений…" и других исторических первоисточников. Здесь же напечатаны "Историческое и топографическое описание первопрестольного града Москвы..." в 1796 г., и один из лучших путеводителей 19 в. – четырехтомную "Москву или Исторический путеводитель…" И. Г. Гурьянова. В его изданиях имена знаменитейших людей России: В. А. Жуковского, И. И. Дмитриева, К. Ф. Рылеева, А. А. Бестужева-Марлинского,
С. Н. Глинки и многих других. В Доме на Большой Дмитровке в 1814-1815 гг. жил Н. М. Карамзин; друг Грибоедова С. Н. Бегичев, друг А. С. Пушкина Кюхельбекер. На литературных вечерах бывали многие писатели и артисты. В октябре 1837 г. Николай Полевой читал драму "Граф Уголино", при встрече В. Г. Белинского с актером П. С. Мочаловым. Издатель С. И. Селивановский, вероятно, состоял в одной из масонских лож, и понятно, что его имя фигурирует на допросах арестованных декабристов. По показаниям В. И. Штейнгеля: "Еще в 1824 г. Рылеев говорил мне: нельзя ли в Москве приобресть членов между купечеством, которые могли бы быть полезны пособием и приготовлением других из своего сословия к свободным правилам… На вопрос Рылеева я тогда решительно ответствовал что в Москве на купечество нельзя рассчитывать, ибо нет ни одного, которому бы можно безопасно вверить тайны общества, что один только Селивановский – известный типографщик – пообразованнее других, но что, впрочем, он не капиталист, а при том и без приема в общество содействует оному изданием книг, к распространению свободных понятий служащих". В Петербурге обеспокоились – еще и купечество может быть замешано в заговоре. Было известно, что Селивановский в последнее время занимался изданием подозрительной энциклопедии. Московскому военному генерал-губернатору полетела депеша из Петербурга с приказом изъять сию энциклопедию. Голицын ответствовал: Получив вечером 9-го числа мая 1826 г. письмо Вашего Превосходительства от 7-го числа насчет московского типографщика Селивановского, я в тот же час поручил исполнить Высочайшую о нем волю господам Московскому обер-полицмейстеру и чиновнику при мне находящемуся, Статскому Советнику Тургеневу. Они в 4 часа по утру сего числа, прибыв в дом Селивановского, забрали у него издаваемую им энциклопедию в трех книгах, уже напечатанную…" Изъяли у Селивановского переписку и деловые документы вместе с его письменными показаниями. Власти не нашли у типографщика ничего предосудительного, хоть он счастливо отделался, на подозрении он все же остался. Типография действовала еще долгое время. В 1835 г. после кончины Семена Иоанникиевича ею управлял его сын Николай Семенович, а потом его дочь Ю. Н. Петрова. В 1864 г. в "Московских ведомостях" можно увидеть рекламное объявление: "Типография, словолитня и гальванопластика Семена Селивановского, в Москве, с 1793 г. Принимает книгопечатание. Адресовать на Большую Дмитровку, в дом Г-жи Петровой, в контору типографии". Прохаживались мимо этого дома и Пушкин с Мицкевичем, что и послужило основанием для переименования улицы в советские времена. А вот Абрам Терц, прогуливавшийся с Александром Сергеевичем без его на это согласия, такой чести не удостоился.
Здесь он поместил типографию, уже ставшую крупным предприятием, впоследствии в Москве занявшую первое место по количеству изданий. Большую известность получило выполнение заказа графа Румянцева по изданию на его деньги "Собрания государственных грамот…", "Древних российских стихотворений…" и других исторических первоисточников. Здесь же напечатаны "Историческое и топографическое описание первопрестольного града Москвы..." в 1796 г., и один из лучших путеводителей 19 в. – четырехтомную "Москву или Исторический путеводитель…" И. Г. Гурьянова. В его изданиях имена знаменитейших людей России: В. А. Жуковского, И. И. Дмитриева, К. Ф. Рылеева, А. А. Бестужева-Марлинского,
С. Н. Глинки и многих других. В Доме на Большой Дмитровке в 1814-1815 гг. жил Н. М. Карамзин; друг Грибоедова С. Н. Бегичев, друг А. С. Пушкина Кюхельбекер. На литературных вечерах бывали многие писатели и артисты. В октябре 1837 г. Николай Полевой читал драму "Граф Уголино", при встрече В. Г. Белинского с актером П. С. Мочаловым. Издатель С. И. Селивановский, вероятно, состоял в одной из масонских лож, и понятно, что его имя фигурирует на допросах арестованных декабристов. По показаниям В. И. Штейнгеля: "Еще в 1824 г. Рылеев говорил мне: нельзя ли в Москве приобресть членов между купечеством, которые могли бы быть полезны пособием и приготовлением других из своего сословия к свободным правилам… На вопрос Рылеева я тогда решительно ответствовал что в Москве на купечество нельзя рассчитывать, ибо нет ни одного, которому бы можно безопасно вверить тайны общества, что один только Селивановский – известный типографщик – пообразованнее других, но что, впрочем, он не капиталист, а при том и без приема в общество содействует оному изданием книг, к распространению свободных понятий служащих". В Петербурге обеспокоились – еще и купечество может быть замешано в заговоре. Было известно, что Селивановский в последнее время занимался изданием подозрительной энциклопедии. Московскому военному генерал-губернатору полетела депеша из Петербурга с приказом изъять сию энциклопедию. Голицын ответствовал: Получив вечером 9-го числа мая 1826 г. письмо Вашего Превосходительства от 7-го числа насчет московского типографщика Селивановского, я в тот же час поручил исполнить Высочайшую о нем волю господам Московскому обер-полицмейстеру и чиновнику при мне находящемуся, Статскому Советнику Тургеневу. Они в 4 часа по утру сего числа, прибыв в дом Селивановского, забрали у него издаваемую им энциклопедию в трех книгах, уже напечатанную…" Изъяли у Селивановского переписку и деловые документы вместе с его письменными показаниями. Власти не нашли у типографщика ничего предосудительного, хоть он счастливо отделался, на подозрении он все же остался. Типография действовала еще долгое время. В 1835 г. после кончины Семена Иоанникиевича ею управлял его сын Николай Семенович, а потом его дочь Ю. Н. Петрова. В 1864 г. в "Московских ведомостях" можно увидеть рекламное объявление: "Типография, словолитня и гальванопластика Семена Селивановского, в Москве, с 1793 г. Принимает книгопечатание. Адресовать на Большую Дмитровку, в дом Г-жи Петровой, в контору типографии". Прохаживались мимо этого дома и Пушкин с Мицкевичем, что и послужило основанием для переименования улицы в советские времена. А вот Абрам Терц, прогуливавшийся с Александром Сергеевичем без его на это согласия, такой чести не удостоился.
Застройка этого участка не очень изменилась с течением времени. К зданиям, построенным Селивановским в послепожарное время, прибавился в 1872 г. лишь корпус по Большой Дмитровке. Все здесь могло бы сохраниться, но расположенному по соседству институту Маркса-Энгельса-Ленина, а ранее, до 53 г, и Сталина, было необходимо место для хранения партийных документов. В октябре 1973 г. снесли дом Селивановского и выстроили партийный архив, офасаденный уставившимися на прохожих слепыми ликами святой троицы коммунистов. Где же вы бродите, на кого вы нас оставили?! Призраки.
ДВОР
Высказаться Аврально